ИДОЛЫ САМОПОЗНАНИЯ
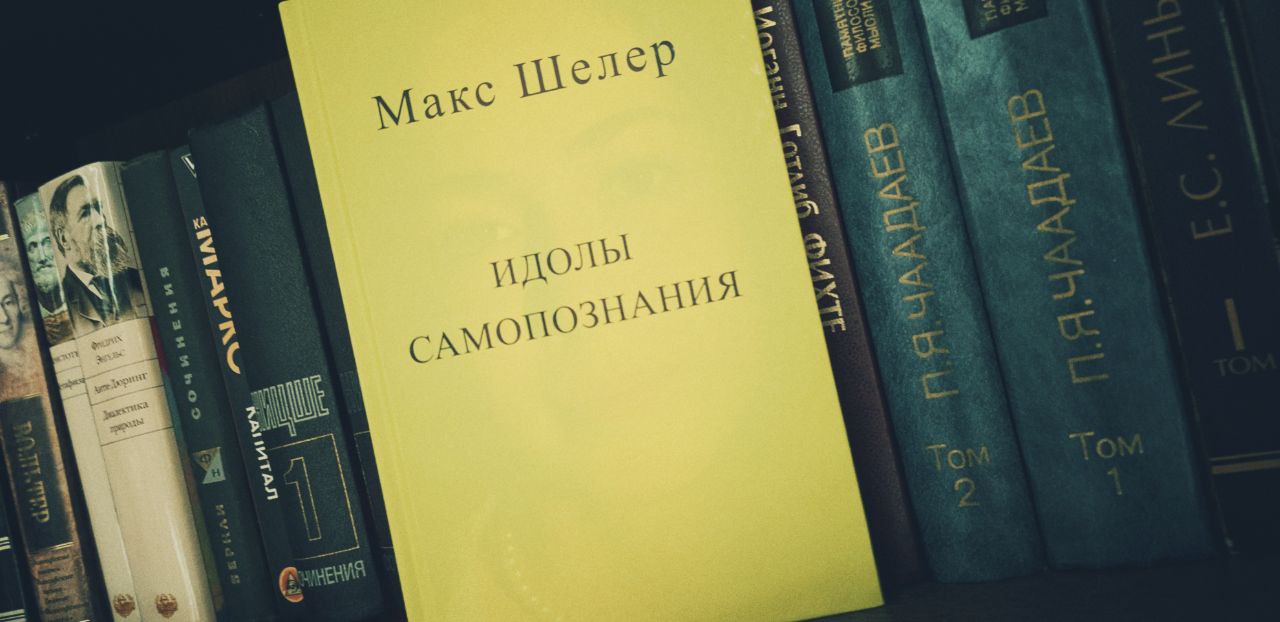
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад! А.С. Пушкин
Кто не оказывался в ситуации, описанной великим русским поэтом? При этом чаще обманываем себя мы сами, как правило не зная этого (к примеру, в заблуждении принимая за любовь или ненависть к какой-нибудь личности то, что таковым не является, либо наоборот). Люди допускают ошибки, годами пребывают в иллюзиях, не догадываясь об этом. Дело доходит даже до того, что создаются целые ошибочные теории, философские концепции и идеологические течения.
Следует отметить разницу между заблуждением и ошибкой. Первое отличается от второй тем, что приводит к ложному убеждению не из-за неверных логических рассуждений человека и исходит словно не от него. В заблуждении человек не чувствует себя деятельным: это как бы само «явление выдает себя за то, чем оно не является». Напротив, в случае ошибки человек оказывается тем, кто толкует, интерпретирует информацию по-своему. К ошибочным утверждениям он приходит путем осознанной деятельности, исходящей из его собственного Я. В заблуждение он может впасть еще до логического осмысления объекта. К примеру, принимая Луну за золотой диск люди не ошибались: это вполне достоверная реальность. Небесным телом Луна становится только после приобретения человеком специальных знаний, дальнейшее развитие которых может привести и к иным метаформозам восприятия Луны: сегодня это небесное тело, завтра цифровая матрица и далее по мере возникновения новых представлений об одном и том же предмете. Такие представления являются не ошибкой, а заблуждением, поскольку человек верно истолковывает реальность на основании интеллектуального багажа того коллективного сознания, в котором он существует.
В заблуждение мы можем впасть по разным причинам. О них вполне доступно рассказал Фрэнсис Бэкон. Он справедливо заметил, что искаженное толкование событий связано с особенностями восприятия внешнего мира человеком. Истолковывая мир через призму собственного восприятия, индивидуум не может не впасть в заблуждения, которые Бэкон назвал идолами. Так появились «идолы рода», «идолы пещеры», «идолы театра» и «идолы рынка».
Однако эти заблуждения касались внешнего восприятия и наблюдения, взгляда на предмет, мышления о нем, а не рассмотрения самих мыслительных актов, позволяющих исследовать предмет, то есть рефлексии мышления о предметах. Выявить такие рефлексивные заблуждения сложнее. Дело в том, что они возникают до применения логических правил восприятия действительности и кроются в непреодолимых слабостях и склонностях человеческой натуры. Проницательно выразил эту проблему Фридрих Ницше, сказав, что «каждый сам для себя дальний», то есть легче понять другого, чем понять себя: «Мы по необходимости остаемся чуждыми себе, мы не понимаем себя, мы должны путать себя с другими – в отношении себя мы не являемся “познающими”». О методах определения и источниках таких заблуждений и рассказывает книга Макса Шеллера «Идолы самопознания».
Жизнь каждого из нас начинается с чувственных ощущений и представлений об окружающем мире, с подражания и осмысления действий родителей, членов семьи, воспитателей. Человек пронизан социальным. Мы ошибаемся, будучи убежденными в своей исключительной индивидуальности. На самом деле всё, что есть в нас, приобретено, оно не наше. Приобретая это социальное, мы разве что уникально его распределяем, «раскладываем по полочкам», структурируем; то есть «Я» представляет собой индивидуальную выборку из «Мы».
Этот процесс нескорый, и действительно, собственные чувства мы обнаруживаем лишь во взрослой жизни, да и то при умелой сепарации нашего социального Я. Из собственных чувств мы замечаем сначала те, которые соответствуют традициям тех общностей, к которым мы принадлежим – как к самым узким, так и к более широким. Всегда требуется длительный путь критического анализа, пока в чувствах, которые изначально переживались нами как наши собственные, мы не обнаружим и не проясним для себя действительно собственные чувства, образно выражаясь, «не выдернем их из потока общностной эмоциональной традиции и не высунем из этого потока собственную духовную голову».
Шеллер выделяет несколько оснований человеческих заблуждений в осмыслении происходящего.
1. Влияние языка, но не в качестве средства общения, а как внутреннего модератора наших эмоций и представлений: «Большим заблуждением было бы считать, будто язык имеет значение и функцию только передачи уже воспринятых переживаний. На самом деле влияние языка неизмеримо шире. Так, переживание, для которого нет специального слова, или особое качество известного переживания, для которого в наличии есть только общее, неконкретное словесное значение, в большинстве случаев либо совсем не воспринимается испытывающим это переживание индивидуумом, либо воспринимается им ровно настолько, насколько это соответствует данному словесному значению». Иными словами, большая часть эмоций возникает лишь при наличии описывающих их слов. Без таких понятий нет и самих эмоций. Мы сначала видим в нашей душевной жизни не сами переживаемые феномены, а их интерпретации, исходящие из языковой традиции общности, то есть мы испытываем переживания настолько индивидуально, насколько эта индивидуальность пронизана социальными традициями и передана нам посредством речевых значений. В случае неясности речевого смысла мы интерпретируем его согласно укорененным в нас традициям. 2. Ценность переживания – еще одно основание субъективной интерпретации происходящего. Ценность чего-либо – это не какая-то «приправа» к тому, что дано, получаемая в результате рефлексии над ним и соответствующей оценки. Наоборот, это первично данный факт, и мы должны его искусственно элиминировать, чтобы получить ценностно нейтральный факт. Роль ценности факта огромна: сначала именно ценностное его содержание всплывает в голове, а уже потом мы начинаем искать, что конкретно вызвало это переживание. Так, мы уже знаем, что когда-то с нами произошло, или чувствуем, что завтра должно случиться нечто «приятное», «грязное» или «благородное», но мы еще не знаем, что именно. Ценности чувствования (или ценностное предчувствие) раньше возникают в светлой зоне нашего сознания, когда содержания самого события там еще нет. Мы уже чувствуем «плохой» какую-то эмоцию, о внутренней целевой связи которой с определенным содержанием мы еще не знаем, так что у нас есть возможность подавить ее, прежде чем она созреет. Так при названии/планировании места встречи мы ориентируемся не на содержание встречи, а на эмоциональность, ранее связанную с прошлым событием. 3. Ограниченность потока информации. Та информация, которую мы получаем от органов чувств нашего тела (мироощущение), является малой толикой всего объема внешних воздействий. Это лишь выборка из того, что мы фактически постигаем через внутреннее восприятие. Тот, кто считает, будто всем душевным процессам (внутренним чувствам от восприятия) однозначно соответствуют телесные состояния, глубоко ошибается. Многое остается без внимания, к примеру, во время учебного занятия школьник не обращает внимания на множество шумов, не связанных с целевой направленностью самого занятия: он не слышит шума дыхания, биения сердца, шума люминесцентных ламп и т.д. Второстепенен даже голос лектора, и лишь его знаковая, речевая артикуляция, передающая смысл высказываемого, становится воспринятым ощущением, на котором он и фокусируется. Усиление громкости посторонних звуков в напряженный момент фильма ужасов (звука вибрации ламп, игнорируемого сознанием фоновых шумов) делает ситуацию нестандартной для восприятия, уводя от привычной фокусировки внимания и тем самым усиливая непредвиденность и непреодолимость наступления чего-то ужасного, что всегда вызывает неудовольствие и страх, отталкивает. 4. Личные предпочтения. Во внутреннем восприятии (в том числе и при воспоминании) мы обычно схватываем из получаемой информации только то, что может вести к полезным или вредным действиям. Так, девушка, «хорошо воспитанная» в нравах мелкобуржуазного общества, даже не допускает восприятия (соответственно, и осознания) своих чувств по отношению к молодым людям, за которых она не может выйти замуж, потому что они не смогут ее обеспечить; она не признается себе в этих чувствах, ведь принцесса и пастух всегда оказываются в разных мирах. Иными словами, многие чувства и их разновидности остаются неизвестными индивидууму либо ему начинает казаться, что его действие осуществлено по нравственным мотивам там, где фактически действие совершалось из соображений пользы. Например, любовь есть нечто совершенно иное, чем солидарность на основе интересов, но как часто нам кажется, будто мы любим, там, где нет ничего, кроме общей идеи. 5. Ограниченность рефлексии, обусловленной традициями. Внутреннее восприятие сначала показывает нам только ту часть переживаний, которая соответствует традиционным формам и направлениям переживаний в семье, народе и в других типах общностей, членами которых мы являемся. Власть традиции сковывает развитие индивидуального, препятствует формированию индивидуальной личности. Отличить то, что мы переживаем сами, от того, что нам навязано традицией, общностью и не является нашим, можно лишь в процессе долгого и трудного познания самого себя как индивидуальной сущности. 6. Вживание в социальную роль. Часто мы принимаем за наше индивидуальное Я ту роль, которую играем в обществе, тот образ мыслей и действий, с которыми считается социум. Наше индивидуальное Я сначала закрыто социальным Я, поэтому нужно приложить немало усилий, чтобы его обнаружить. Вельможа при дворе Людовика XV видит самого себя глазами короля, английский буржуа рассматривает себя в свете буржуазного общественного мнения. Когда мы смотрим на человека, первое, что мы видим, – это его социальное Я. Именно с последним мы разговариваем, именно ему задаем вопросы и с ним ведем переговоры. Подавляющее большинство людей ограничивается этим знанием, и лишь немногим удается пробиться через эту оболочку («А король-то оказывается голый!»). Даже при воспоминании о каком-то человеке перед нашими глазами чаще всего возникает то общество, где мы его когда-то встречали и частью которого он являлся. Так же и наш совокупный образ, который мы сами себе формируем, не определяется беспристрастным восприятием нашего живого индивидуального Я, а целиком и полностью зависит от тех образов, суждений и взглядов, которые относительно нас имеют окружающие. Мы «сердцем прикипаем к социальным ролям», так что забываем самих себя, и надо приложить немало усилий, чтобы себя найти. Без критики и самозабвения это порой невозможно.
Таким образом, основным источником наших заблуждений относительно самих себя является склонность ориентироваться на тот образ «Я», который формируется вовсе не нами самими, а нашим культурным и социальным окружением, то есть культурной традицией, общественными ценностями и нормами, массовыми интересами и идеалами. Соответственно, нас обманывают не люди, не идеи или вещи – нас вводит в заблуждение наше собственное неадекватное их восприятие, когда нам кажется, будто вещь, идея или ценность занимает иное место в нашей жизни, чем есть на самом деле. Тогда мы абсолютизируем то, что в действительности относительно. Мы фанатично отождествляем себя с религиозным, идеологическим или политическим движением, с интересами корпораций или интернет - идолов, которым мы посвящаем жизнь. В итоге мы оказываемся в мире иллюзий и заблуждений, и по большому счету только системная историческая критика способна сломить силу традиции, чтобы высвободить истинную жизнь из плена традиционной «кажимости жизни».

0 комментариев