Всечеловеческое vs. общечеловеческое (Эпизод) . А.В. Смирнов.
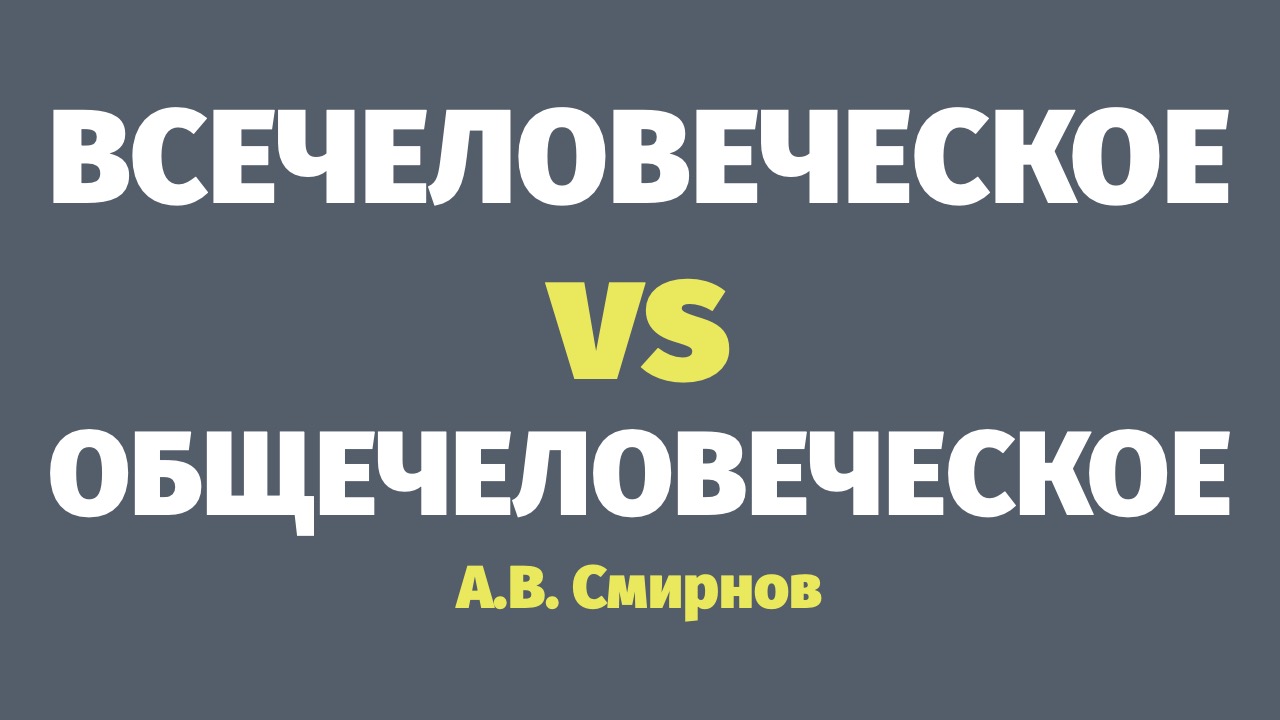
Еще одно толкование категории «всечеловеческое» встречаем у Ф. М. Достоевского (1821– 1881) — современника Н. Я. Данилевского. Достоевский происходил из древнего боярского рода, однако родовитость едва ли сказалась на его образе жизни. Четыре года на каторге после осуждения по делу петрашевцев и гражданской казни оказали, безусловно, огромное влияние на писателя. Интересно, что по делу петрашевцев проходил и Данилевский, хотя он после стодневного заключения в Петропавловской крепости был выслан в Вологду, а не приговорен к казни: судьбы этих двух мыслителей оказались связаны в этой точке. Данилевский — особая, т. е. особняком стоящая, фигура в русской литературе XIX века. Его невозможно типизировать, он не похож ни на кого. Достоевский — не только писатель, но и общественный мыслитель. Конечно, он — не философ в смысле европейской традиции профессиональной философии. Однако его размышления и поиски имеют, безусловно, философское значение и интересны для нас в этом качестве.
Знаменитая «Пушкинская речь» Достоевского была произнесена на заседании Общества любителей русской словесности 8 июня 1880 г. Как известно, эта речь произвела огромное впечатление на слушателей, что было, вероятно, неожиданностью и для самого Достоевского. Она была встречена овациями и западников, и славянофилов. Сам Достоевский думал, будто его речь окончательно примирила эти два лагеря, показав мнимость их противостояния. Однако это было скорее впечатлением момента, непосредственным влиянием его слов, нежели подлинным снятием противоречий. На деле Достоевский понимал, не обольщаясь мгновенным эффектом, что противоречия гораздо серьезнее, нежели то, что можно было бы сгладить одной речью. Он пишет об этом в своем «Дневнике»; и он оказался прав. Со стороны лагеря западников, в частности, со стороны профессора петербургского университета А. Д. Градовского, были выдвинуты острые возражения.
Достоевский рассматривает Пушкина как ключевую фигуру в развитии русской литературы XIX в. Не случайно он начинает свою речь словами Гоголя, который говорил: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа»2. В чем же состоит этот «русский дух»? Как подчеркивает Достоевский, и до Пушкина были великие поэты, и нельзя представлять дело так, будто бы Пушкин совершил какой-то великий переворот в литературе. О Пушкине часто говорили и говорят, что он перерабатывал европейские мотивы, подражал Байрону. Однако понятно, что простое подражание европейским поэтам не превратило бы Пушкина в ту фигуру, какой он был3. Значение Пушкина с исторической точки зрения заключается в том, что если бы его не было, не было бы, скорее всего, и всей той плеяды великих русских писателей, которые появились в XIX в. Эта его роль определена тем, что Пушкин был первым из литераторов, кто точно схватил и изобразил русские характеры. Иначе говоря, в творческой форме, через литературные образы Пушкин ответил на вопрос «что значит быть русским» —вопрос, разгадку которого с таким трудом на протяжении XIX в. искали философы и представители общественной мысли. Поэтому Достоевский и возвращается к Пушкину, поскольку уже он дал в неповторимой полноте русские характеры, русские типы. С этой точки зрения подражательство или воспроизведение каких-то прежде бывших форм теряет всякое значение. Дело вовсе не в этих формах; дело в том, что именно дает нам Пушкин, используя эти формы. Никакой подражатель не мог бы с такой глубиной и с такой ясностью описать русские типы, как это сделал Пушкин. Вот почему Достоевский говорит, что Пушкин — глубоко русский поэт, он укоренен в русской почве — при всей его широкой европейской образованности.
Какие же это типы?
Это, во-первых, тип скитальца. Конечно, этот тип встречается не только в России; выведен он и Байроном. Однако отличительная черта русского скитальца заключается в том, что в своих скитаниях он стремится дойти всегда до самого предела, до края. Таковы скитальцы, которые уходили к цыганам, бросая привычные формы жизни и думая, будто там, в среде этого «дикого» народа, они могут найти то, что отсутствует в их жизни. Это — тип Алеко из поэмы «Цыгане». Цыганщина в русской жизни XIX в. — не свидетельствует ли действительно об этом? Это не только разгул, не только «раззудись, рука»; это и залихватское скитальчество. Уход к цыганам был переменой места, физическим, так сказать, уходом. Однако точно таким же скитальцем оказывается современный Достоевскому русский интеллигент, который уходит искать счастья не к цыганам, а в социализм1. Он не меняет места жительства; однако, погружаясь в социалистические идеи, он также оказывается скитальцем.
Что уходя к цыганам, что уходя в социализм, русский скиталец ищет не просто удовлетворения собственных желаний. Это — попытка найти не свое счастье, но обязательно — всемирное счастье. Точнее, собственное счастье и состоит в этой всемирности искомого, чаемого счастья. Как говорит Достоевский: русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтобы успокоиться. И добавляет: «Дешевле он не примирится»2. Это — очень ироничные слова. И Достоевский весьма ироничен в отношении этого типа русского скитальца. Этот скиталец не укоренен ни в чем, поэтому всегда думает, будто бы абсолютное, всемирное счастье — где-то там, куда необходимо направиться, покинув свое место. Конечно, отнюдь не все русские люди — скитальцы подобного типа. Большинство как раз безмятежно живут, не беспокоясь, обычной жизнью мещан. Но всегда непременно находятся такого рода скитальцы, отправляющиеся за всеобщим счастьем. Таким скитальцем оказывается и Онегин. Не случайно, говорит Достоевский, он всё время перемещается, меняет места по мере развития романа. Эти русские скитальцы, являющиеся в разных обличьях, разделяют ту общую черту, что они — как былинка, которую может сдуть ветром, не укоренены ни в чем.
Этот русский скиталец, говорит Достоевский, не понимает, что правда не где-то там, куда он хочет всё время отправиться: к цыганам, в социализм, куда-то еще, — а правда в нем самом1. «Не у цыган и нигде мировая гармония, если ты первый сам ее недостоин, злобен и горд и требуешь жизни даром, даже не предполагая, что за нее надобно заплатить»2. Заплатить, естественно, не деньгами — заплатить работой над собой. Правда — в его душе, где он и должен был бы ее искать; будь так, не надо было бы никуда уходить, не нужны были бы скитания. Но русский скиталец не может этого понять, поскольку оторван от собственной, родной почвы, от почвы своей культуры, говорит Достоевский.
Этот тип русского скитальца появляется в начале второго столетия после петровских реформ. Об этом мы уже говорили: за эти сто лет в русском обществе оформилось глубокое расщепление на верхнюю, элитарную, интеллигентскую, европеизированную часть — и массовую народную. Человек, принадлежащий верховому слою — это человек «европейской культуры», со всеми его благими побуждениями: ведь он хочет блага, причем очень по-русски — всемирного блага, блага для всех, — но не может понять, где найти его. Не может потому, что не имеет корней в собственной культуре — он не может питаться ее почвой. И не случайна судьба тех двух скитальцев, которые персонифицированы в образах Алеко и Евгения Онегина. Алеко изгоняем цыганами, которые говорят ему «Оставь нас, гордый человек!». Они его не принимают, поскольку у них-то как раз есть своя почва. Они живут своей жизнью, и хотя их считают диким народом, их жизнь органична, ее уклад вполне соответствует их душевному складу. Разителен контраст между ними — и представителем образованного общества, не укорененного в собственной культуре: он попадает к «диким» цыганам, но оказывается, что их укорененность, их органичность ставит их выше его. Он сдуваем — они прочны. То же самое относится к Евгению Онегину: он отвергнут Татьяной, когда, увидев ее в свете и оценив, ищет взаимности — но она его отвергает точно так же, как цыгане отвергли Алеко. И отвергает по той же причине, говорит Достоевский. Татьяна понимает, что Онегин — всего лишь былинка, не укоренная в почве; подует ветер — его не станет1. Беспочвенность Онегина имеет и другую сторону: он не способен на постоянство и подлинность оценки, ему нужно одобрение внешней инстанции. Он сам не способен оценивать и ценить; ему нужно, чтобы кто-то за него это сделал. Не вообще кто-нибудь, конечно же, а тот, кто для него выступает источником оценки и, главное, самих ее критериев. Бóльшую беспомощность, наверное, трудно представить:
О, если бы тогда, в деревне, при первой встрече с нею, прибыл туда же из Англии Чайльд- Гарольд или даже, как-нибудь, сам лорд Байрон и, заметив её робкую, скромную прелесть, указал бы ему на нее, — о, Онегин тотчас же был бы поражен и удивлен, ибо в этих мировых страдальцах так много подчас лакейства духовного!
Это духовное лакейство — оборотная сторона беспочвенности.
Татьяна — совсем другого типа характер, нежели Онегин. Подлинный герой поэмы, с точки зрения Достоевского, — Татьяна; поэму стоило бы назвать «Татьяна», а не «Евгений Онегин», говорит он. Татьяна — глубоко русский характер, укорененный в русской почве. Не случайно первая ее встреча с Онегиным — в деревне, в глуши, в погруженности в русскую жизнь. Но ее русскость, конечно же, не внешняя; не в том дело, что она живет в деревне — позже она окажется в свете, в Петербурге. Дело в другом. В чем же? Это — кульминационная точка речи. Представьте, говорит Достоевский, что некий архитектор предлагает вам проект всемирного, абсолютного счастья. Окончательное, полное счастье для человечества; исполнение христианского идеала — царство Божье на земле. Однако в основание этого прекрасного здания нужно положить лишь одного замученного старикашку. В основание всеобщего счастья, иначе говоря, нужно положить несчастье лишь одного человека — да и какого человека? никчемного старика, мужа Татьяны. В«Евгении Онегине» так вопрос не стоит; это Достоевский ставит вопрос так. Но он именно так видит этот характер и его значение. Татьяна отвечает на этот вопрос в глубоком согласии с русским характером, говорит Достоевский. Она отвечает отрицательно: не может быть счастья на несчастье другого, даже если это счастье — всеобщее, а несчастье — отдельного человека. Не нужно всемирное счастье, если в его основании лежит хотя бы одна слезинка ребенка. В главе «Бунт» Пятой книги Второй части «Братьев Карамазовых», непосредственно предшествующей главе «Великий инквизитор», едва ли не слово в слово повторено то, что сказано в «Пушкинской речи» (два текста написаны почти одновременно). В «Братьях Карамазовых»:
— ...Представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им, наконец, мир и покой, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданьице, вот того самого ребеночка, бившего себя кулачонком в грудь, и на неотомщенных слезках его основать это здание, согласился ли бы ты быть архитектором на этих условиях, скажи и не лги!
— Нет, не согласился бы, — тихо проговорил Алеша.
— И можешь ли ты допустить идею, что люди, для которых ты строишь, согласились бы сами принять свое счастие на неоправданной крови маленького замученного, а приняв, остаться навеки счастливыми?
— Нет, не могу допустить1.
В «Дневниках писателя» («Пушкинская речь»):
Позвольте, представьте, что вы сами возводите здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой. И вот представьте себе тоже, что для этого необходимо и неминуемо надо замучить всего только одно человеческое существо, мало того, — пусть даже не столь достойное, смешное даже на иной взгляд существо, не Шекспира какого-нибудь, а просто честного старика, мужа молодой жены, в любовь которой он верит слепо, хотя сердца ее не знает вовсе, уважает ее, гордится ею, счастлив ею и покоен. И вот только его надо опозорить, обесчестить и замучить и на слезах этого обесчещенного старика возвести ваше здание! Согласитесь ли вы быть архитектором такого здания на этом условии? Вот вопрос. И можете ли вы допустить хоть на минуту идею, что люди, для которых вы строили это здание, согласились бы сами принять от вас такое счастие, если в фундаменте его заложено страдание, положим, хоть и ничтожного существа, но безжалостно и несправедливо замученного, а приняв это счастие, остаться навеки счастливыми?
В Пушкинской речи нет тех пронзительных, ужасных примеров, которые в «Братьях Карамазовых» предшествуют приведенному диалогу; можно сказать, что в «Пушкинской речи» говорится о едва ли не обыденной ситуации, когда никто не умирает — в отличие от «Братьев Карамазовых», где рассказанное оказывается на грани переносимого. И тем не менее ситуация — одна и та же. Дело не в степени страдания, не в его пронзительности. Дело в страдании как таковом. Ведь мир — Божий и Христос приходил в мир, чтобы дать людям свободу и искупление. Почему же люди ведут себя так, как если бы всего этого не было, как если бы завещанное Христом братство было пустым звуком для них? Вот для Достоевского главный вопрос, который он ставит и на который отвечает едва ли не во всех своих произведениях. В «Братьях Карамазовых» непосредственно за приведенным диалогом следует легенда о Великом инквизиторе. Христос — лишний не только для людей, но и для Церкви (там речь о римской церкви, о ее испанских инквизиторах). Точнее, он потому лишний для Церкви, что лишний для людей: им не нужна ни свобода, ни братство, им принесенные, они предпочитают рабство и жестокость. Вот в чем дело: послание христианства утеряно, люди не носят Бога в душе. Такова главная боль Достоевского. Он далеко не идеализирует русский народ и знает его худшие стороны. Говоря, что русский народ — богоносец, Достоевский выражает свою надежду на то, что именно этот народ, сохранивший, несмотря на все мерзости, утраченное прочими народами чувство христианского братства, принесет его другим, и прежде всего в Европу. Вот в чем он видит оправданность «нашего стремления в Европу».
«Ихнее общество сложилось не по-нашему, не на Христе, а на Римской империи», напишет Достоевский в «Дневниках писателя» уже после своей речи о Пушкине. И продолжит: «Народ западный свергнет ту гнусную оболочку, в которой его заключили, и кончит тем, что найдет Христа. Может быть, к нам и придет за ним, к народу нашему великому, и тогда все обнимемся и запоем новую песнь»1. В чем же заключается эта «гнусная оболочка» западной жизни? Обращаясь к русским «либералам», как он их называет, в ответ на упомянутую статью А. Д. Градовского Достоевский говорит:
У вас гражданские идеалы одно, а христианство другое. По-нашему, по-русски это неделимо. Гражданским должно быть христианство, а христианин уже поневоле гражданином, ибо мы христианство принимаем в идее, а не в слове и не в букве, как вы.
В жизни Запада христианство присутствует формально, как буква или как слово, не меняющее самой жизни и не превращающееся в ее субстрат. Такова мысль Достоевского: отличие России от Запада в том, что христианство здесь, в России, составляет саму жизнь и саму душу народа. Христианство не как богословское учение, не как обряды — не как слово и буква. Христианство как ощущение братства и как невозможность агрессии и страдания, злобы и ненависти между людьми. Христианство как подлинное братство. Думаю, что таково самое главное, стержневое чувство в Достоевском, определяющее все его произведения, в том числе и основную идею «Пушкинской речи».
Здесь у Достоевского — та же самая идея целостности, или соборности. Идея сохранения каждого — каждого субъекта, когда нельзя пожертвовать никем. Он видит русский народ как носителя этой идеи и на этом основании резко отделяет его от нынешнего «западного народа». (Думаю, что Достоевский прав и что логически всесубъектность не совместима с субъектной центрированностью субстанциальной логики.) В этом смысле Достоевский совершенно точно указывает эту черту характера Татьяны, поскольку она действительно отражает это народное чувство, народное ощущение соборности как непременности всесубъектности, когда каждый должен удержать и сохранить собственную субъектность. Но возникает безвыходная ситуация, ведь сама Татьяна любит Онегина, а значит, она либо должна сделать несчастным своего мужа, этого самого «старикашку» (но она от этого отказывается) — либо она сама должна быть несчастна. Что же она выбирает? Она однозначно выбирает оказаться несчастной самой. Она готова быть несчастной — но не может сделать несчастным другого и на этом основать свое счастье или даже счастье всех. Здесь нельзя не провести параллель с «Анной Карениной» Л. Н. Толстого: ситуации весьма схожи. Анна как раз делает другой выбор — в пользу личного счастья. Но мы знаем, чем это заканчивается — невозможностью дальше жить. Этот ее выбор, противоположный выбору Татьяны, оказывается для нее смертельным. У Толстого Анна делает то, что Татьяна Пушкина считает невозможным, но тем самым и подтверждает правоту Татьяны — правоту ее решения, а не своего. Я не хочу сказать, что Толстой сознательно проводил какие-то параллели; но если их не было, то тем более характерна по-разному решенная, но совпадающая в главном идея этих двух писателей.
Итак, это — первое, что видит Достоевский у Пушкина: тип скитальца, не укоренного в родной почве, и противостоящий ему тип характера, укоренного в родной почве. При этом и Татьяна у Пушкина, и Анна у Толстого — не крестьянки и даже не купчихи или мещанки, это — представительницы высшего класса. Это особенно важно в свете расщепления русской жизни на европейскую, оторванную от народа интеллигенцию, и народ: важно, что в среде высшего, образованного класса есть типы и характеры, укорененные в родной почве, производные именно от нее, а не от Европы. Хотя Достоевский не указывает специально на это обстоятельство, я думаю, что он имеет это в виду, и это объясняет тот особый упор, который он делает на Татьяне, на этом русском типе. Мы должны понимать, что для той эпохи, для второго послепетровского века увидеть русские типы в народе не представляло бы ничего из ряда вон выходящего: Островский, к примеру, рисует такие типы. А вот увидеть русский тип в среде высшего сословия, среди европейски ориентированного класса было не в порядке вещей.
Позиция Татьяны выражает абсолютный этический императив: нельзя несчастье другого положить в основание собственного счастья. Конечно, не следует думать, будто это — черта только русская. Можно вспомнить этику Канта с ее абсолютным запретом на ложь, этику ненасилия Толстого и Ганди с ее абсолютным запретом на насилие. Вопрос, однако, в том, идет ли речь о теории, сконструированной философом, или речь идет о стихии, субстрате народной жизни, из которой мы вычерпываем эти теоретические положения. Обратившись к современным этическим дискуссиям в западной литературе, мы увидим, что то, на что указывает Достоевский, имеет свое значение. Ведь абсолютность запретов, столь ярко проявившаяся у Канта, сегодня начинает размываться. Предлагаются ситуативные решения, когда мы должны выбирать, кем пожертвуем и чью жизнь или благополучие можем не сохранять в той или иной ситуации1. В такого рода контекстах речь идет об отмене абсолютного запрета на причинение зла, и они служат, безусловно, «научной», «философской» основой для таких бесчеловечных понятий, как «сопутствующие потери» при американских и натовских бомбардировках суверенных стран, для таких аморальных действий, как отнесение целых стран в разряд «изгоев»2. Поэтому абсолютность запрета на несчастье другого, о которой говорит Достоевский в связи с Пушкиным, имеет, безусловно, значение в свете современных этических дискуссий. Нельзя ценой чужого несчастья купить даже абсолютное счастье, не говоря уже об относительном. Таково требование этики всесубъектности.
Во-вторых, это то, что можно сформулировать так: «всемирная отзывчивость». Это — также проявление этики всесубъектности, в котором можно заметить и эпистемологическую, и эстетическую сторону. Формулу «всемирная отзывчивость» Достоевский применяет к Пушкину. Он говорит, что всемирная отзывчивость составляет исключительную черту именно русского духа, русского характера, которая проявилась у Пушкина3. Что это означает, собственно говоря?
Это означает, по Достоевскому, способность почувствовать страдания другого человека как свои собственные. В этом и заключается основание того, о чем шла речь выше — почему нельзя чужое страдание положить в основание хотя бы и всемирного счастья: чужое страдание будет и твоим страданием, а значит, будет исключать счастье и для тебя. Другой стороной всемирной отзывчивости, другим ее проявлением служит способность перевоплотиться в гений другого народа. То, что Достоевский говорит о Пушкине, никак не принижает, по его утверждению, всемирное значение Байрона, Шекспира, Шиллера или кого-либо еще из европейских гениев. Но у Шекспира, говорит он, итальянцы — все сплошь англичане: Шекспир переосмысливает их как англичан. Благодаря такому переодеванию в национальные одежды эти персонажи обретают и общеевропейскую, и мировую значимость, говорит Достоевский. Но у Пушкина испанские персонажи — именно испанцы, а не русские. В подражаниях Корану Пушкина, считает Достоевский, мы слышим голос, ощущаем дух «магометанина». В «Египетских ночах» перед нами — именно Древний Египет. Иначе говоря, это всякий раз — перевоплощение в другого, и отзывчивость понимается как такое перевоплощение. Это, говорит Достоевский, — проявление собственно русской черты. Это, добавлю я, может быть адекватно истолковано только как проявление логики всесубъектности.
Что же из этого вытекает? Сами петровские реформы, отношение к которым у Достоевского достаточно неоднозначное (они приводят к расколу, к беспочвенности, к появлению скитальцев), — они имели свою правду. Не истину, а правду: они были оправданны (не скажем же мы: «обыстиненны»). Истина — это истина факта, вроде совпадения высказывания с положением дел в мире. Правда же — это включенность данного явления в общемировую гармонию, в соборность и все-связность, включенность именно на своем месте: в этом заключается его правда, его оправданность. Или — его всесубъектность, т. е. его собственная субъектность как условие всесубъектности. Правда, оправданность — одна из излюбленных категорий русской мысли; вспомним «Оправдание добра» В. С. Соловьева. Когда русские мыслители критикуют западное христианство, они его критикуют именно за односторонность, за формализм, за потерю этой целостности, или целостной оправданности.
Всемирная отзывчивость проявляется в том числе и в том, что русский народ, считает Достоевский, принял петровские реформы как оправданные2. Здесь Достоевский начинает свою апологию «европейской линии» России, ее «вхождения в Европу». Правда петровских реформ и заключалась, по Достоевскому, в том, что они выражали правильное, нужное стремление России в Европу.
«Ведь мы разом устремились тогда к самому жизненному воссоединению, к единению всечеловеческому»3 — вот так появляется категория «всечеловеческое» в Пушкинской речи Достоевского. Достоевский считает, что русский гений, который заключается в способности воплотиться в гений любого другого народа, чувствовать любое чужое страдание как свое собственное, способен привести ко всечеловеческому единению. Здесь очевидным образом проявляется идея всесубъектности. Однако «всечеловеческое единение» Достоевский понимает вполне в духе христианского идеала. Поэтому он и говорит о русском народе как о народе-богоносце; кстати говоря, у Данилевского также можем прочитать, что избранными Богом народами был еврейский, открывший божественную истину, и русский. Однако у Данилевского это — второстепенное замечание, религиозная нота не определяет у него целостную концепцию. А вот у Достоевского это — определяющее для его концепции положение. Всечеловеческое единение он мыслит как христианское и арийское единение. Понимание способности воплотить в себе чужую правду, чужой гений входит у Достоевского таким образом в противоречие с тем, что это единение и эта чужая правда понимается как только христианская, т. е. ограниченная определенной религией. Для Достоевского христианское братство — второй уровень идентичности постольку, поскольку он ставит фактически знак равенства между христианским и арийским. Всё за пределами «арийского», т. е. индоевропейского, ареала оказывается для него как будто слепым пятном. Однако постольку, поскольку в принципе христианство не может ограничиваться никаким «ареалом», этот уровень христианского братства потенциально оказывается и общемировым. Если так, то у Достоевского второй и третий уровни также слипаются, хотя вопрос о третьем уровне идентичности и его отличии от второго у него не только не проработан, но фактически и не намечен.
Данилевский и Достоевский жили практически одновременно. Оба говорили о всечеловеческом. Идея всечеловеческого и у того, и у другого созвучна идее соборности, собирания, сохранения всесубъектности. Это — общее для двух мыслителей. Оба они считают противостояние славянофильства и западничества заблуждением. Оба они его преодолевают. Однако глубокое различие между ними заключается в том, что для Данилевского славянофильство — такое же заблуждение, как западничество. Он считает оба течения ошибочными1 и ставит свою теорию над ними, над их противостоянием. А Достоевский считает, что славянофильство на самом деле выражает правду западничества и что западничество, если убрать его крайности, выражает правду славянофильства. И то, и другое выражает для Достоевского «наше стремление в Европу», но мы приходим в Европу не с какой-то чужой миссией, говорит он, мы приходим в Европу не как немцы, итальянцы, англичане или французы, мы приходим в Европу как русские. Это значит — мы приходим как способные ко все-примирению: способность чувствовать чужое страдание как свое, способность перевоплотиться в чужой гений и есть способность снять все противоречия. Это окончательное примирение, всеобщее братство связывается Достоевским именно с русским гением, или русской способностью. Поэтому он и говорит: стать настоящим русским значит стать братом всех людей, или, если хотите, всечеловеком1. Интересно, что у Данилевского «всечеловек» невозможен как действительное существо, поскольку всечеловеческое у него — разноместное и разновременное собрание максимумов каждого из культурно-исторических типов, а значит, они не могут быть воплощены ни в одной цивилизации, и уж тем более — ни в одном человеке. Он так и говорит: «был только один Всечеловек — и Тот был Бог». Для Достоевского же «всечеловек» означает способность перевоплощения в любого из людей, а точнее, в любого из людей той общности, которую он и берет как имеющую значение — общность европейско-арийскую, христианскую. Достоевский понимает «русский гений» как способность перемещаться между идентичностями первого уровня, когда любая из них оказывается близкой и не чуждой. Конструируемый им второй уровень идентичности имеет достаточно размытые черты: это и не вполне «Европа», и не вполне «Запад». Скорее это — некая не имеющая четких границ общность по уже указанному признаку — по признаку принятия «христианской истины». «Всечеловеческое» у Достоевского толкуется, таким образом, как все-субъектное, но с особым пониманием способности смены субъектности, способности смены идентичности.

0 комментариев