Способы говорить о Бибихине: Проблема рубрикации творческого наследия в академической среде. Михаил Богатов
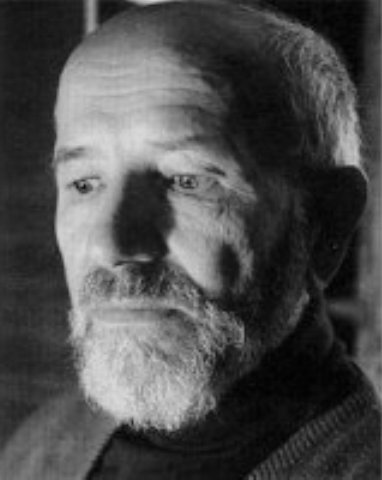
Впервые опубликовано в альманахе “Res Cogitans” № 8, 2015.
“Выход из метрического, мерного пространства в свободное незаметный, человек словно проваливается как Фалес в погреб, нечаянно, и сразу становится ненаблюдаемым, на этом основании невидимость и невидимки, и невидимка становится заметен: самое бросающееся в глаза это невидимка, вот уж кому не удастся остаться скромно незаметным”
(Владимир Бибихин, “Лес” (С.99))
Если исходить из герменевтической исследовательской установки, предписывающей, помимо прочего, разделять – при изучении того или иного автора, – насколько возможно приближенное к его собственным воззрениям отношение к миру, тогда творческое наследие Владимира Бибихина вряд ли может подлежать строгой систематизации [ 1 ] . Бибихин часто – в различных формах – выступает против всё подминающих под себя целей планирования, распорядка, “расписания”, “метрики”: “Рано или поздно встречает другой пейзаж, сложный, но без метрики” [ 2 ] . Поскольку систематизация всегда так или иначе следует определённой прагматике использования наследия в собственных целях, то по отношению именно к этого рода стратегиям “приручения” Бибихин разработал целый ряд намеренных уклонений и избеганий (можно было бы назвать их “стратегией молнии”), проистекающих из удержания “открытой внимательности” [ 3 ] . Даже там, где читаемые им курсы подчинены какой-то извне навязанной логике (например, как курс “История современной философии” заведомо обрекает его читающего сосредотачиваться на персоналиях), мы не встречаем стандартно принятой (в целях удобства или же навязанных стандартом образования) внутренних систематизаций, вроде: биография, труды, основные идеи. Тем более это относится к его авторским курсам лекций – “Мир”, “Собственность”, “Энергия”, “Лес” и т.д. Поэтому, если имеется необходимость обращения к наследию Бибихина, и, при этом, не насильственная, но исходящая из сути дела (die Sache) систематизация невозможна, следует говорить о возможной рубрикации наследия, целью которой было бы картографирование имеющихся перед нами ландшафтов, по которым – до сих пор – каждый интересую-щийся уже проложил себе охотничьи тропы и лесные дороги (Holzwege). Если Бибихин отвергает “расписания” и планирование, то, при этом, по некоторым косвенным наблюдениям можно сделать вывод, что создание рубрикации – не такая уж формальная процедура в его переводческо-издательской деятельности [ 4 ] . В данной статье нам хотелось бы лишь обратить внимание на некоторые формальные трудности, возникающие с попыткой создания подобной рубрикации – уже на уровне замысла – поставить вопросы, а не предлагать те или иные примеры рубрицирования.
На данный момент складывается довольно странная ситуация (свидетельства которой можно было обнаружить, анализируя материалы первой “бибихинской” конференции [ 5 ] ): если на сегодня для каждого исследователя сложился “свой Бибихин”, то, по меткому замечанию Олега Хархордина, напрямую вытекающему из понимания собственности самими Бибихиным, “задача заключается в том, чтобы сделать Бибихина самим собой, а нам стать самими собой, интерпретируя его” (цитируется живое выступление) [ 6 ] .
Нечастая на данный момент практика обращения к работам Бибихина показывает пока правоту слов Хархордина о “своём Бибихине для каждого”, что поразительно напоминает до сих пор не устоявшееся в России отношение к философии Ницше и Хайдеггера: с ними также обращаются как с источником поиска каких угодно идей с целями обоснования каких угодно выводов. Дело не в том, чтобы зафиксировать и канонизировать имеющиеся идеи или положения (что в отношении Ницше, Хайдеггера, Бибихина, как и любых свободно мыслящих людей невозможно), но в том, чтобы понять, что источник многообразия выводов, следующих из работ философов – это сама проделываемая их мышлением работа, а не лишь её выводы (на что обращал внимание ещё Гегель [ 7 ] ). Внешняя и принципиальная бессистемность мышления Бибихина отнюдь не является проявлением хаотичности его мышления; напротив, она может послужить серьёзным указанием на то, каким именно образом осуществляется строгая работа мысли, не стеснённая навязанными ей извне задачами сложиться в систему. Чем строже мысль, тем она свободнее – и поэтому, на взгляд стороннего наблюдателя, тем бессистемнее, хаотичнее, беспорядочнее (сторонний наблюдатель всегда применяет сторонние критерии). Но здесь скорее мы видим повод задуматься о том, что же лежит в основании всякого видимого и структурированного порядка, нежели о том, чтобы расценивать любую внешнюю несистемность мышления в качестве призыва к насильственному упорядочению посредством вмненения чуждых ей целей.
Ничего плохого, в том, чтобы у каждого был “свой Бибихин” в принципе нет, но в конечном итоге, велика опасность приписывания работам автора тех коннотаций и выводов, которые у него не встречается, эксплуатация наследия для пропаганды не относящихся к делу идей. В свободном брожении по наследию Бибихина сказывается на данный момент не столько особенность последнего, сколько специфический интерес тех, кто к этому наследию обращается. В этом случае неплохо бы иметь под рукой путеводитель, чтобы тот или иной молодой исследователь, познакомившись с одним из встреченных им “чудес” этой страны, мог составить себе представление и о других, а также о том, насколько все они взаимосвязаны. До сих пор отсутствует хоть какая-то принятая академическим сообществом стратегия выработки “способа говорить о Бибихине”. Данная статья ставит себе целью продолжить начатое обсуждение, которое, возможно, было одной из целей упоминавшейся выше конференции. Поэтому, особенно не располагая никакой предварительной разработкой, постараемся в общих чертах зафиксировать сами собой напрашивающиеся, уже имеющиеся и возможные практики обращения к наследию Бибихина, задающие возможные способы “говорить о нём” [ 8 ] .
Практика привычных для академического сообщества обращений
Переводы. Что касается привычного для академического взгляда способа работы, то здесь, безусловно, наследие Бибихина распределяется по его трудам довольно просто: наиболее строгие существующие критерии академических оценок могут быть с лёгкостью применены к его переводам (как философских, так и художественных авторов), включая (в первую очередь) вопросы об их спорности и уточнениях [ 9 ] . Именно в подобного рода обращениях встречается наибольшее на данный момент число отсылок к наследию Бибихина: начиная с переводов, открывающих России Хайдеггера [ 10 ] – и вплоть до цитируемых самостоятельно (в контексте авторских курсов) фрагментов Аристотеля [ 11 ] . И, если до сих пор встречается критика переводов, выполненных Бибихиным, то, при этом, нет пока ещё ни одной серьёзной статьи, посвящённой принципам его переводческой работы (несмотря на наличие значительных замечаний о задачах переводческой деятельности, разбросанных по разным курсам и книгам самим Бибихиным [ 12 ] ).
Кроме того, следует учитывать ещё и один важный, но уже – вследствие времени – упускаемый из вида контекст ранних переводов: советский режим, при котором сам перевод выступал со стороны переводчика тем или иным способом заявить собственную позицию (и случай с выпуском перевода Григории Паламы под псевдонимом Вениминова – лишь один из ярких, но даже не столь показательных примеров [ 13 ] ). Частично, собственное видение Бибихиным ситуации описано им в статье “Для служебного пользования” (в сборнике “Другое начало”). Здесь следовало бы учитывать – какие именно тексты переводились, где (и в каких редакциях) они публиковались. Ведь взяться за тот или иной перевод в тех условиях могло значить как демонстрацию лояльности по отношению к режиму, так и смелость в заявлении собственной позиции – и не только политической, но и сугубо творческой [ 14 ] .
Опубликованные и подготовленные к печати работы. И, если с переводами, в силу вынужденного обращения к текстам (в целях цитирования) учёные имеют дело постоянно (и их может раздражать, что переводчик – не “просто переводчик” [ 15 ] , но претендует на вмешательство в их “собственную” область), то уже обращение к авторским работам самого Бибихина намного реже, зато и более благожелательно (и, при этом, как мы отмечали в самом начале – совершенно стихийно). Здесь уже начинает вырабатываться “собственный Бибихин” каждым. В случае переводов – каждый вырабатывает “своего Хайдеггера”, зачастую просто игнорируя факт авторского воссоздания его Бибихиным – связано это, как кажется, с тем, что повальное число профессоров и доцентов, пишущих работы о Хайдеггере, просто не могут самостоятельно ознакомиться с его сочинениями в оригинале; но лишь в этом случае они бы могли не только понять особость работы Бибихина, но, что важнее – оценить сложность этой работы [ 16 ] . Даже публикация на русском языке отдельных параграфов “Бытия и времени” в переводе Александра Михайлова позволяет русскому читателю понять особость мысли Бибихина [ 17 ] .
По привычности обращения к непереводческим работам Бибихина академическому сообществу легче иметь дело с написанными и подготовленными к печати самим автором статьями – здесь Бибихин выступает для научного сообщества в качестве par in parem, причём его наследие в данном отношении зачастую ускользает из вида, хотя представляет собой значительный массив выполненного труда. Трудность заметить его состоит в том, что статьи либо сопровождают переводы [ 18 ] , либо – будучи напечатанными отдельно – посвящены таким темам и столь “академично” исполнены, что могут восприниматься учёными в качестве анонимных энциклопедических заметок. При этом, хочется отметить, что строгость работы мысли здесь “та же самая”, что и в авторских лекционных курсах – а потому данный пласт наследия требует особого и самостоятельного исследования.
Далее, могли бы быть “привычными” обращения к тем темам, которыми официально занято академическое сообщество – и которые разрабатывались Бибихиным в напечатанных им же работах. Примером подобных традиционных обращений может послужить тема Возрождения (у Бибихина – в “Новом Ренессансе”), проговариваемая из года в год каждым студентом гуманитарных специальностей, а потому служащая предметом размышлений и наблюдений также и для их преподавателей. Но уже куда сложнее обстоит дело с вроде бы “академически” заявленными темами, но разработанными вне любых привычных рамок. Примером последних может послужить лекционный курс 2001-2002 гг. “Введение в философию права”. Если в самом начале курса мы встречаем привычные и ожидаемые для данного курса понятия (право, порядок, мораль, государство, семья, церковь, власть), то, наряду с ними, вкрадываются уже и странные особенности: не “государство и семья”, но: “государство-семья”, а кроме того – ревизор, фасад, изнанка, оправданность жизни. А далее так вообще следуют довольно вольные (на академически поставленный взгляд как юриста, так и философа) исторические разыскания с параллельным чтением заметок де Кюстина и первоначальных грамот ещё околовизантийской Руси. Что делать преподавателю с этой книгой? Повторить не удастся – чего не позволит и жёсткая стандартизированная программа по учебной дисциплине, и сама привычная для большинства преподавателей манера чтения лекций. Заявить авторский курс – и пересказывать на нём Бибихина, вряд ли является возможным (и честным) выходом. Поэтому остаётся выхватывать из текстов Бибихина те или иные меткие наблюдения, смысловые ходы – и всё это помещать в контекст стандартных и ожидаемых академических лекций (следуя нашим личным наблюдениям, такова практика наиболее частого упоминания имени Бибихина в российских вузах на данный момент).
Лекционные курсы. И если с переводами, а также традиционными темами ещё как-то можно обойтись в академической работе, то несравненно большие трудности для подобного обращения вызывают авторские курсы, которые все, с одной стороны, берут так или иначе знакомые (в общем и целом) понятия уже в своих названиях, но, при этом, раскрывают их совершенно “неиспользуемым” подручными и наличными в сегодняшней университетской среде, способами. В принципе, пример с “Введением в философию права” здесь уже послужил хорошей иллюстрацией, но можно взять и другие работы. Между освоенными филологией темами располагаются курсы “Грамматика поэзии” (конец 90-х) и “Дневники Льва Толстого” (2000-2001). На поверку первый оказывается семестровым прочтением одного стихотворения Ольги Седаковой, а второй никак не подпадает под традиционную филологическую задачу помещения исследования дневников Льва Толстого в контекст исследования его художественного творчества, или настроений интеллигенции переломного времени рубежа ΧΙΧ-ΧΧ вв. Филологи скажут, что это – философия [ 19 ] , философы не распознают уже в названии собственных предметов. Перед нами то, что называется “междисциплинарностью”, но и та особого рода. Если принятый “междисциплинарный подход” предполагает взаимодействие дисциплин, строго признающих и удерживающих свои предметные границы, – и лишь на этом основании вступающих в диалог друг с другом, то Бибихин действует так, будто никаких предметных границ пока ещё не установлено, что всё ещё только может быть сложится, а может и нет – но работать следует уже теперь и здесь. Можно сказать так, что облики возможных дисциплин появляются в работе его мысли по ходу её разворачивания – но они лишь отсветы, тени рассматриваемого предмета. Сам же предмет слишком горяч, чтобы его могла себе присвоить хоть одна из осознавших свои границы (застывших) дисциплин.
Но даже и в курсах, предмет которых достаточно определён в рамках одной из существующих академических дисциплин (чаще всего в философии, хотя есть и кажущийся филологическим курс 1989 г. – “Внутренняя форма слова”), подаётся этот предмет таким образом и в таких всегда неожиданных контекстах, что никакой возможности его “схватить” нет. Когда, например, в курсе “Витгенштейн: смена аспекта”, философы привыкли говорить об “основных идеях” Витгенштейна, где же им найти место для изложения теории цвета (а не отдельного упоминания о таковой в качестве “примера”)? Или, в “Энергии” – что делать философам: рассуждать об учении Паламы или следить за рейтингом акций нефтяных корпораций на мировой фондовой бирже? Бибихин как бы “по ходу дела” занят и тем, и другим, не ставя себе ни то, ни другое конечной целью рассмотрения. Поэтому, на данный момент времени, кто-то выбирает наиболее “похожее” на плановую академическую тему рассуждение Бибихина – и цитирует его, заботливо помещая в ожидаемый стандартный контекст.
Заметки и дневники. Помимо переводов, написанных работ и прочитанных лекционных курсов, имеются ещё различные записи и дневники Бибихина. Но, по-скольку они на данный момент не опубликованы (за исключением некоторых заметок в качестве дополнения к курсу “Узнай себя” [ 20 ] ), как, впрочем, и некоторые лекционные курсы, то поэтому и нет смысла говорить об их возможной цитации и освоении научным сообществом. Можно лишь предположить, что они послужат хорошим подспорьем тем серьёзным исследователям Бибихина, которые всё равно не смогут не появиться в нашем и зарубежном научном мире.
Формулировка основных трудностей для обращения к наследию
Уже сказанного вполне достаточно, чтобы сформулировать основные проблемы, а точнее – дилеммы (или даже: апории), которые возникают – на данный момент – с обращением к творческому наследию Владимира Бибихина. Если изложить их в сжатой формулировке, то получится следующий перечень из четырёх положений:
1. В своей переводческой деятельности Бибихин действует не “просто как переводчик” [ 21 ] , но как оригинальный мыслитель, задавая герменевтическую задачу: понять перевод можно лишь исходя из собственных ходов мысли Бибихина, изложенных в его непереводческих работах. Учёному, который желает “просто” цитировать Хайдеггера, но, при этом, не желает вникать в “философию Бибихина”, приходится сталкиваться с дополнительными задачами по интерпретации, которую он чаще всего проводит произвольным образом;
2. Бибихин ставит под сомнение устоявшиеся предметные области различных гуманитарных (а в курсах “Лес” и “Энергия” – также и биологических, и физических) дисциплин, границы между ними. Делает он это, однако, не с кантовскими целями (поставить под сомнение, критически очистить, чтобы ещё прочнее установить), но будто бы проводя установку, согласно которой из предмета мысли разворачивается наука. При этом, на данный момент времени, устоялось совершенно противоположное положение: из наличия той или иной науки (академические традиции и ритуалы, институции и инфраструктуры) следует перечень её необходимых предметов. Учёные, чаще всего подготовленные к тому, чтобы, имея предмет, начинать его “исследовать”, оказываются безоружными перед гипотезой о том, что сам ход исследования, его строгость впервые только и “разворачивают” предмет;
3. Особую сложность представляет собой стиль изложения (и мышления) Бибихина – начиная с его авторской пунктуации (в которой печатаются работы) – и вплоть до порядка составления слов. Этот способ изъясняться чужд наукообразному и тяжеловесному, исполненному абстракций языку, усреднённо устоявшемуся в гуманитарных науках. На первый взгляд язык Бибихина кажется, с одной стороны, избыточным – до тавтологичности – своими кружениями, и, одновременно с тем, с другой стороны – исполненным недомолвок, отсутствием традиционных “паразитических” связок, имитирующих логическую связность хода мысли, вроде: “таким образом”, “на самом деле”, “из этого следует, что” и т.д. Неподготовленный взгляд спотыкается об эту манеру изложения и стремится поскорее перевести её на “нормальный” язык. При этом предполагается, что у Бибихина имеется некое “содержание”, которое можно “изложить” иначе – и, в общем-то, проблема напоминает старые попытки перевести диалоги Платона в форму трактата [ 22 ] . При этом, следуя пониманию языка Бибихина (в двух значениях этого родительного падежа), можно сказать так: в текстах Бибихина нет никакого “содержания”, которое можно было бы “передать другими словами” и которое избавило бы от досадного “бибихинского стиля” нежный взгляд гуманитариев. Способ изложения мысли – и есть её трансляция в речи и, соответственно, на письме;
4. Кроме того, в этом смысле Бибихин действует так, будто нет ни традиций, ни ритуалов самоутверждения науки, ни институции её, ни инфраструктуры. Поскольку же они наличествуют, то в этой его установке сказывается выявление условности всех этих вещей, будто они “подвешены в пустоте” (как и все “расписания”). В этой связи, даже “академическое” занятие Бибихиным (ежели кто умудрится внедрить таковое) будет носить характер бунтарский, анархический – по отношению к господствующему на данный момент порядку [ 23 ] , включая его мотивирующее и будящее заявление о том, что философия должна вернуться на свалку, где ей самое место, [ 24 ] – которое многие учёные иначе, чем провокацией в дурном смысле слова и не назовут.
Все эти апории – так или иначе – призывают к пересмотру теми, кто решается иметь дело с Бибихиным, говорить о нём, своего собственного положения, постановке под вопрос условий собственного высказывания.
Когда академическое сообщество сталкивается с определёнными трудностями, оно тут же вырабатывает способы их обойти. Одним из таких способов является рассмотрение творчества Бибихина как “хайдеггерианца”.
Сведение особости Бибихина к “хайдеггерианству”
В упомянутой выше статье Бориса Нарумова сказывается общая установка, которая до сих пор ещё довлеет над знанием о Бибихине: “Бибихин известен как переводчик трудов Хайдеггера”. Чаще всего – на уровне провинциального и удобного восприятия – дело дальше этой “известности” не идёт. Здесь хочется обратить внимание на намеренность в подобном упоминании Бибихина – как “хайдеггерианца”.
Общепризнано, что Хайдеггер – непростой, а то и “тёмный” философ – как на уровне языка, так и на уровне биографии. Не упрощает его восприятие и объявленный им самим “поворот” в мышлении, а также намеренное избегание публичности – особенно в послевоенное время. В общем, причин назвать кого-то непонятным всегда больше, чем причин исследовать его – и назвать как-то иначе. Здесь срабатывает своеобразный механизм “экономии мышления”, зачастую являющийся лишь прикрытием интеллектуальной лени или нечистоплотности.
Не зная, как иметь дело с Бибихиным, можно объявить его “хайдеггерианцем” – и тогда все трудности, связанные с первым, автоматически можно будет свести ко второму. В конечном итоге ситуация доходит до того, чтобы растворить особость и строгость мысли Бибихина в количественно набравшем силу российском “хайдеггерианстве”, а последнее, как известно, за редкими исключениями, представляет собой ту самую “мутную воду”, в которой ловится всё, что угодно [ 25 ] . Исключения здесь составляют как раз те, кто напрямую – так или иначе, – связан с немецкими текстами Хайдеггера, а также занимает ту или иную позицию в общеевропейском контексте исследователей Хайдеггера. Остальные ищут в творчестве Хайдеггера спасения от такого же “мутного” потока российских “аналитиков” и ”социальных философов”. Для них Хайдеггер (как и Ницше) – повод заявить о себе.
Чтобы справиться с тем вызовом, который Бибихин бросает собой академическому сообществу, можно свести его особость к особости Хайдеггера. Ещё отдельного исследования заслуживает (в рамках прикладного развлечения) тот вопрос, сколько характерных особенностей мысли Бибихина были автоматически приписаны множеством российских гуманитариев Хайдеггеру. Из практики подобного вменения следует два вывода.
Во-первых, редкое количество обращений к текстам и мышлению Бибихина может быть объяснено тем, что многие воспринимают их как тексты и мышление Хайдеггера, и, обходя “просто переводчика”, вчитывают и вписывают в своих многочисленных публикациях бибихинское в хайдеггеровское. Статей, посвящённых Хайдеггеру не в разы больше, чем статей хотя бы упоминающих Бибихина – даже там, где цитируются в основном переводы последнего.
Во-вторых, само подобное вменение заставляет исследователей Хайдеггера искать (и, понятное дело, “находить”) у Хайдеггера то, что принадлежит исключительно Бибихину. Впрочем, такому положению дел способствует сам Бибихин – кажется, ему присуща стратегия “только лишь комментатора”, не претендующего на говорение “своего”. Отсюда часто, рефреном, повторяется его удивление – “откуда мне взять своё?” или: “я перед вами нахожусь с голыми руками, у меня ничего нет” [ 26 ] . У Бибихина эти признания – не кокетство, но особого рода установка на работу мысли, распознать которую можно без труда при должном внимании. Но куда проще расценивать отказ от выступления с позиции знающего профессионала теми, кто привык к различного рода самопозиционированиям и самопрезентациям (навязываемым “практикой портфолио”), в качестве действительного расписывания в собственной слабости, что, думается, демонстрирует всё же чрезвычайно наивный подход к делу.
Сейчас, после публикации значительного количества авторских курсов и книг Бибихина, кажется, что проблема сведения особости Бибихина к “хайдеггерианству” исчерпана. Но, интеллектуальная привычка такового рассмотрения Бибихина, которая сформировалась у обращающихся к наследию Хайдеггера, не так-то просто может быть отменена. Темы, не вписывающиеся в философию Хайдеггера и даже не могущие быть ей насильно вменёнными, могут вполне рассматриваться как маргинальные увлечения “хайдеггерианца”, не представляющие для академического сообщества значительного интереса. Но даже обратная стратегия – обращение исключительно к “внехайдеггеровским” темам Бибихина именно для выявления его особости, – как раз закрепит и даже зацементирует творчество Бибихина как “в остальном хайдеггерианца”.
Чтобы справиться с этими трудностями, следовало бы поднять значительную тему – того самого сообщества, к которому принадлежал Бибихин, включая как реальные, так и виртуальные его измерения.
Сообщество Бибихина: способ обращения к другим
Не обладая достаточными знаниями в области личного общения Бибихина со своими современниками, мы можем говорить лишь о тех зафиксированных и широко известных дружеских творческих связях и влияниях, которым он подвергался и которые он оказывал [ 27 ] . Более или менее известен круг друзей Бибихина, которые продолжают свою творческую деятельность и сегодня – это Ольга Седакова, Сергей Хоружий, Анатолий Ахутин и др. Но не об этой биографической составляющей нам сейчас хотелось бы говорить (которая, как известно, всегда несёт на себе отпечаток личных предпочтений самого исследователя, его пристрастий и недомолвок). По-прежнему, как и во всём данном тексте, речь идёт о творческом наследии Бибихина, и поэтому тема сообщества, которую следовало бы поднять в связи с вопросом о “хайдеггерианстве”, касается – в первую очередь – способа обращения Бибихина к тем или иным персоналиям в своих работах, манере вступления с ними в диалог. В этом смысле меньшего интереса заслуживают статьи, специально посвящённые тем или иным личностям – о Ницше [ 28 ] или об Арто [ 29 ] , о Паламе или о Петрарке. Наоборот, как раз там, где речь идёт о каком-то предмете (энергии, собственности, материи, языке) – тут и там, порой совершенно неожиданно, упоминаются те или иные философы, писатели, поэты или просто знакомые люди (чаще всего – дети, они для Бибихина – мыслители, значительно превосходящие по глубине “профессиональных философов”).
Хотелось бы отметить одну характерную особенность обращения к другим мыслителям, выделяющую Бибихина в этом аспекте. Обычно, если только автор не пишет специального исследования о том или ином философе, он упоминает его для закрепления своей позиции – либо цитируя его в качестве “подтверждающего” собственную точку зрения, либо – как “несогласного” с ней же (в последнем случае цитирование, опять же, укрепляет позицию автора методом “от противного”). В любом случае, такое цитирование оказывает усиливающее правоту цитирующего действие, а сам цитируемый автор остаётся проходным, побочным.
В случае обращения Бибихина к тем или иным текстам (Аристотеля, Фрейда, Хайдеггера, Паламы, Седаковой, Ахутина, Гейзенберга…) можно наблюдать совершенно иную картину. Зачастую автор, к которому в ходе лекции обращается Бибихин, в самом деле ослабляет нарождающуюся правоту лектора. Иногда создаётся впечатление, что Бибихин намеренно, чуть ли не бессознательно, забегая вперёд, в интенции, ставит себе на пути фигуру такого автора, который собьёт его с наметившейся удачной колеи рассуждения (пожалуй, один из самых потрясающих примеров подобного сбоя представляет собой курс “Собственность”). Начиная всегда с признания “пустых рук”, Бибихин будто бы желает – уже в ходе “захвата” – избавиться от набирающегося, начинающего диктовать ту или иную методичность, мышления. И как раз для этих целей выбирает себе собеседника. Чаще всего выбор этот неожиданен, и, на первый взгляд, вообще неуместен.
Но, как раз этот самый неожиданный и неуместный контекст обращения к другому (к другу [ 30 ] ) столь же неожиданно оборачивается обнаружением такого же контекста у того, к кому Бибихин обращается. В такой ситуации Аристотель, например, вполне может включиться в обсуждение энергетического кризиса современности, а Пушкин рассказать о последствиях приватизации. Таким образом, со стороны здесь намеренно нарушается негласная привычка академических обращений, которые традиционно достаточно чётко рубрицированы – по проблеме, по школе, по учебнику, по персоналиям и т.д. То, что на первый взгляд кажется ослаблением собственной позиции лектора (также нарушающим практику цитирования), уже скоро сказывается обогащением того, к кому лектор обращается. Мыслители прошлого и настоящего, таким образом, не “занимались определёнными проблемами, ограничиваясь ими” (и, якобы поэтому мы должны к ним обращаться лишь по мере занятия теми же проблемами), но продолжают присутствовать среди нас, гибко трансформируя своё мышление вместе с нашим.
Для практики академических обращений, настроенных довольно “прогрессистским” образом по модели “накопления знаний” (Платон преодолевается Аристотелем, сегодняшний учёный, занятый Ницше, преодолел Ницше – и т.д.), подобное введение других в свой контекст, а также обнаружение своего контекста у этих других, выступает своего рода подрывной деятельностью, намеренным обнищанием любых мыслимых “достижений”. Сама по себе эта проблема заслуживает отдельного исследования, но мы сейчас хотели бы остановиться на некоторых её характерных чертах.
Бибихин не столько цитирует автора, чтобы подтвердить свою правоту, сколько приглашает его – для самоостановки: цитируемый автор ослабляет позицию Бибихина (возвращая его к ситуации “нищеты”), представая непроходимым соучастником в деле мысли. Можно сказать, что такие характеристики чаще всего присущи живому присутствию реального собеседника (если бы Платон присутствовал на защитах курсовых работ по собственной же “философии”, то вряд ли бы последние защищались с такой лёгкостью и равнодушием). Но как раз подобное обращение к отсутствующему в аудитории древнему (или современному) автору, выполняющееся со всей тщательностью условий живого уважительного присутствия, неожиданным образом (платоновское “вдруг”) трансформирует не только предмет рассмотрения, но и весь контекст последнего.
В принятой академической среде эти переключения (“смены аспекта”) как раз и выглядят как сказывание бессистемности, нестрогости и т.д. Но в этих условиях возникает такое обилие возможных рассмотрений темы, раскрывается такой веер её горизонтов, которые будут неожиданны не только для слушателей, но и для Бибихина, и для тех, кого он таким образом “пригласил”. Как и в живой дружеской беседе, при подобном рассмотрении отсутствует намеренно задаваемая самим рассматривающим единая линия рассуждения, лишь для видимости плюрализма ссылающаяся на других мыслителей. Неожиданные Пушкин или Аристотель, оказавшись привлечёнными к беседе, не останутся теми Пушкиным и Аристотелем, которых мы – из других, привнесённых извне контекстов, “уже знаем”. Они и в самом деле будут живыми, то есть – непредсказуемыми, несмотря на наличие “сложившихся и знакомых нам текстов”, как раз благодаря этим текстам [ 31 ] . В этой установке – сама возможность пригласить автора как живого собеседника, ослабляющего и непроходимого, могущего мыслить о захватывающих вещах: “…в тексте Платон, событие Платона, мысль Платона включает все те приращения, переращения, превращения, которые с ней случились и которые она в себе держала, несла с самого начала, в том числе событие Платона включает и то, что с нами происходит, когда мы читаем Платона, – утрируя, можно сказать, что Платон и нас запрограммировал таких, имеющих «собственные мысли» по поводу его сочинений и выражающих эти наши собственные мысли в наших собственных сочинениях” [ 32 ] .
Можно сказать, что в самом начале лекционного курса, когда слушатели (студенты и просто заинтересованные) видят только лектора, Владимира Вениаминовича Бибихина, в нем присутствуют ещё – пока незримо, до поры до времени, но они обязательно прервут и вмешаются, – мыслители прошлого и настоящего, они скажут своё слово в неожиданный для всех момент, и для них самих это слово будет неожиданным.
Если попробовать с этой позиции рассмотреть возможное “хайдеггерианство” Бибихина, то тогда безусловно справедливым будет также называть его паламистом (исихастом?), аристотеликом (перипатетиком?), розановцем, соловьёвцем, парменидианцем, ницшеанцем, витгенштейнианцем, и даже фрейдистом (список можно продолжать). В этой связи мало что даст также именной указатель бибихинских обращений, а точнее: он был бы полезен в том случае, если бы при обращении к нему мы как раз бы учитывали специфику бибихинского обращения к этим именам.
Фигура Хайдеггера в таком случае может быть рассмотрена с этих же позиций – как ослабляющего, непроходимого, неожиданного и живо присутствующего в обсуждении “наших” проблем собеседника. Возможно, отличие фигуры Хайдеггера от всех остальных сводится к тому, что в своё время (это – лишь робкая гипотеза) именно он послужил тем, кто помог Бибихину отстраниться от лингвистических штудий, и, кроме того, тот, кто потребовал максимальных усилий для собственного перевода (приведших, в итоге, к реальному знакомству с людьми, занятыми тем же делом – с Жаком Деррида и Франсуа Федье; разобщение с первым произошло всё по тому же делу [ 33 ] ).
Но, в любом случае, все эти преимущества и предпочтения Хайдеггера другим обращениям, следовало бы рассматривать через эти, отмеченные нами, черты. В таком случае, мы бы увидели не только особость Хайдеггера, но и особость Бибихина, а также, что важнее, тот способ следовать делу мысли, который между ними устанавливается (Хайдеггер начинает присутствовать в мысли Бибихина по поводу дела мышления, а не потому, что Бибихин – “хайдеггерианец”).
(Ещё чрезвычайно важным моментом, имеющим решающее значение в случае творчества именно Бибихина, является присутствие в его работах и лекциях фигур умолчания. Здесь имеются в виду не те авторы, к которым он не обращается в данный момент, но к которым мог бы – в силу знания – обратиться; скорее, здесь идёт речь о наличии намеренных фигур умолчания, очевидным образом в диалоге находящихся, но ничего при этом не говорящих. В рамках гипотезы можно было бы предложить два наблюдения на этот счёт. Во-первых, таковые фигуры могут выполнять несколько ролей: например, “ранний” Бибихин мало говорит о Хайдеггере – и, при этом, Хайдеггер очень многообразно “сказывается” (и тогда речь идёт о фигуре помощника), в то время как “поздний” Бибихин делает Хайдеггера (и Аристотеля) лишь одними из персонажей своих лекций и работ [ 34 ] . Другая возможная роль – умолчание по поводу того или иного предмета, может быть проиллюстрировано кричащим отсутствием Бахтина с его концепцией “события” даже в тех случаях, где он был бы уместен (и тогда речь идёт о фигуре оппонента). Кроме того, можно было бы выделить – подобно тому, как это делает Платон в своих диалогах, вводя матёрых персонажей, но не давая им слова – фигуру судьи, того, перед лицом которого, даже если он ничего и не говорит, сами слова приобретают другое, более весомое значение. Во-вторых, в этой связи можно было бы исследовать то самое значимое виртуальное сообщество друзей Бибихина, а также изменения в нём – в зависимости от периода творчества (пополнение, уменьшение, перераспределение значимости и т.д.), которое позволило бы говорить об определённом настроении самого философствования Бибихина, а также его собственной захваченности работой мысли) [ 35 ] .
Такого рода исследование могло бы внести иные, по отношению к господствующей ныне монологической манере обращения с наследием, способы философов мыслить и говорить о философах. То есть речь идёт, опять же, о понимании нами нашего собственного положения. Бибихин начинает одно из своих выступлений 1999 г., так и названное – “Наше положение” – следующими словами: “Я не вижу другой возможности улучшить наше положение чем расширение личных встреч между людьми разных жизненных миров всеми приличными средствами, лишь бы удалось не соскальзывать на общие места и пустые фразы” [ 36 ] .
1. В данном тексте мы не касаемся вопросов, связанных с поиском, расшифровкой, расположением и стратегиями публикаций оставшегося наследия Владимира Вениаминовича, всех тех вопросов, которые касаются непосредственной работы над личным архивом, которым занимается Ольга Лебедева. Сайтом Бибихина занимается Владимир Авдеенко. Непосредственное участие в работе над рукописями при подготовке их к печати принимали Ольга Седакова, Анатолий Ахутин, Александр Михайловский, Эльфир Сагетдинов, Вардан Айрапетян, Егор Овчаренко и др. Наблюдения Ольги Лебедевой и Владимира Авдеенко по поводу работы с творческим архивом Бибихина будут опубликованы в ближайшее время в восьмом номере теоретического альманаха “Res Cogitans”.
2. Бибихин В.В. Дневники Льва Толстого. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2012, С.31.
3. Молния как закон русской истории: “Правитель не скрывает, что взял власть. Для убедительности он делится своей молнией” (Бибихин В.В. Закон русской истории //Бибихин В.В. Другое начало. – СПб.: Наука, 2003. С.34). При этом: “Размаху Петра отвечает открытая внимательность Пушкина” (Там же. С.35). Одновременно – на этом же перекрестье: огонь Геркалита – и каменная задумчивость Розанова в курсе “Чтение философии”.
4. В курсе “Лес” Бибихин делает такую отсылку: “То неудобство, что то, что наработано о точке в разных курсах, о поре и о Витгенштейне, не напечатано, будет скоро исправлено, поэтому я повторяться не буду, и желающие могут посмотреть о совпадении противоположностей, абсолютного минимума и абсолютного максимума в точке, по моему указателю к двухтомнику Николая Кузанского” (Бибихин В.В. Лес. – СПб.: Наука, 2011. С.60-61). Помимо того, что работа с предметным указателем, по сути – с детальной рубрикацией – не рассматривается им как проделанная впустую и сугубо формальная, можно – исходя из этого замечания – сделать ещё одно наблюдение: поскольку студентам на тот момент были недоступны изданный позже курс “Витгенштейн: смена аспекта” и до сих пор не изданный курс “Пора”, а работа была уже проделана, то каждый может начинать её делать – например, с Николая Кузанского. Всё выглядит так, что строгая мысль (Кузанского), если студенты дадут ей ход, сама приведёт к средоточию тем Витгенштейна и проблем времени.
5. Международная конференция “Философское наследие В.В.Бибихина”, проведённая Европейским университетом в Санкт-Петербурге 16-17 мая 2013 г.
6. Задача, поставленная Хархординым, со стороны выглядит синтезирующим слиянием двух основных установок, предполагающим, в свою очередь, исполнение множества других условий. Одним из таковых является предполагающее наличие у членов академического сообщества “желания стать самими собой”, желание измениться посредством достижения некоторых истин, в то время как на практике всё выглядит прямо противоположным образом. Впрочем, сам Хархордин об этом – как исследователь генеалогии российской личности – прекрасно знает. Кроме того, следует всё же предположить, что Бибихин уже “сделался самим собой” – без наших усилий. Если учесть эти два взаимоисключающих положения, то никакого синтеза – даже в мысленном эксперименте – случиться не может: учёные, уверенные в том, что уж кто-кто, а они стали самими собой (что фактически спорно, зато безапелляционно выражается на практике), с одной стороны, и обращение к наследию того, кто стал самим собой (что фактически бесспорно, но зато – из практики неадекватных обращений – постоянно ставится под сомнение) – между этими двумя сторонами вряд ли присутствует возможность предустановленной гармонии.
7. Ср.: “Ибо суть дела исчерпывается не своей целью, а своим осуществлением, и не результат есть действительное целое, а результат вместе со своим становлением; цель сама по себе есть безжизненное всеобщее, подобно тому как тенденция есть простое влечение, которое не претворилось ещё в действительность; а голый результат есть труп, оставивший позади себя тенденцию” (Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. – СПб.: Наука, 1999. С.2. Пер. Г. Шпета, курсив – Гегеля).
8. Мы не будем касаться вопросов оценки творчества Бибихина, личных характеристик его и связанных с ними вопросов (а также чрезвычайно важного вопроса о периодах развития его творчества). Поскольку таких работ, если не считать рецензий на отдельные книги (и эпитафий), чрезвычайно мало (и появились они в 2005 году, сразу же после его смерти), то можно указать основные из них: Михайловский А., Ахутин А., Хоружий С. Памяти Бибихина // Точки. 1-2 (2005). С.7-25; Михайловский А.В. Вольный ум. В.В.Бибихин // Отечественные записки. 2004. 4 (19); Хоружий С.С. Входя в мир Бибихина // Историко-философский ежегодник. – М.: Наука, 2005. С.121-126; Ахутин А.В. Философ В.В.Бибихин // Там же. С.126-134; Неретина С.С., Огурцов А.П. Событие Бибихина // Бибихин В.В. Введение в философию права. – М.: ИФ РАН, 2005. С.331-342; Неретина С.С. Бибихин В.В. // Новая российская энциклопедия. Т. ΙΙΙ (1). – М., 2007. С.180. Несмотря на то, что она посвящена отдельному курсу лекций Бибихина, нельзя не упомянуть и эту статью: Седакова О. Весть Льва Толстого // Бибихин В.В. Дневники Льва Толстого. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2012. С.5-20. Хочется думать, что ситуация изменится к лучшему после выхода сборника материалов первой “бибихинской” конференции.
9. Обсуждение спорности переводов Бибихина, как кажется, связано не столько с самими переводами, сколько с тем, что Бибихин делает помимо переводов на их основе. Теперь уже нельзя ответить на вопрос: к примеру, критика перевода “Бытия и времени” развернулась бы таким же образом, если бы Бибихин не интерпретировал Хайдеггера в своих курсах, не выступал на почве “хайдеггерианства”? Российское академическое сообщество пока не выработало способов вести грамотные критические дискуссии, и поэтому напасть на “хайдеггерианца” “хайдеггерианцу” сложнее, чем, скажем, будучи “хайдеггерианцем”, критиковать переводчика. Частично данная гипотеза объясняется на практике – особых критических выпадов в отношении остальных переводов Бибихина не встречается – никто не нападает на русские варианты работ Николая Кузанского, Григория Паламы или Франческо Петрарки. С другой стороны, эти авторы не являются объектами столь пристальной приватизации новым поколением российских гуманитариев, как фигура Хайдеггера.
10. Среди первых переводчиков начала 90-х, наряду с Владимиром Бибихиным, следует упомянуть Александра Михайлова, переводческий коллектив “Разговоров на просёлочной дороге” (1991): Татьяну Васильеву, Александра Доброхотова и других, однако количество претензий именно к Бибихину значительно превосходит упоминания этих переводов (на втором месте, обсуждаемого в качестве “спорного” можно назвать Александра Михайлова).
11. Здесь нельзя не упомянуть о статье-рецензии на “Внутреннюю форму слова”, написанную Алексеем Аполлоновым (Аполлонов А. Бибихин: как рубить языком сплеча? // Пушкин. 1. 2008. С.129-134). На С. 132 Аполлонов говорит: “Выбор Аристотеля на указанную роль более чем странен, поскольку, – по крайней мере, среди греков, – нет мыслителя более далёкого, нежели он, от «учения о языке» В.В. Бибихина. Отчего насилие над текстом Стагирита становится неизбежным” (и, соответственно приводит примеры, возвращающие нас к четырёхтомнику Аристотеля в советском изводе). Тон всей статьи чрезвычайно напоминает ещё один, правда, немецкий текст более чем столетней давности, а именно – статью Виламовица фон Мёллендорфа, высмеивающую “Рождение трагедии” за ненаучность (Ср.: Мёллендорф В. фон.Филология будущего! / Ницше Ф. Рождение трагедии. – М.: Ad Marginem, 2001. С.242-278. Пер. А.В. Михайлова).
12. Среди специальных текстов, посвящённых этой проблеме, см. целый ряд текстов в: Бибихин В.В. Слово и событие. Писатель и литература. – М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2010, таких как “Джордж Стайнер. После Вавилона: аспекты языка и перевода” (С.125-132), “Опыт сравнения разных переводов одного текста” (С.132-140), “Подстановочный перевод” (С.140-159), “К проблеме определения сущности перевода” (С.159-169), “К переводу классических текстов” (С.169-175), “К переводу «Метафизики» Аристотеля” (С.175-185).
13. К примеру, публикация в сборнике “Борьба идей в эстетике” с характерным подзаголовком: “Марксистско-ленинская критика реакционных эстетических учений” сразу двух переводов: Э. Прахта “Миф реальность и современный ревизионизм” (Борьба идей в эстетике. Марксистско-ленинская критика реакционных эстетических учений. – М.: Искусство, 1974. С.59-102) и В. Шредера “Антропологизация эстетики. Фантазия и “новая чувственность” в эстетических позициях “Курсбуха” (Там же. С.194-245). Это замечание призвано обратить наше внимание – при работе с текстами Бибихина – на тот контекст, который, если и не был определяющим в данном случае, то уж точно не мог быть игнорируемым.
14. Особого упоминания и исследования заслуживает также эпоха конца 80-х – начала 90-х гг. ХХ века, в которой сошлись воедино многие удачные факторы – как возможности (пуб)личного выступления Бибихина перед аудиторией, так и заинтересованность университета (по приглашению Вяч. Вс. Иванова, – которое сегодня, в эпоху балльно-рейтинговых систем и электронных пропусков, себе представить уже сложно), когда, в курсе “Собственность” он сам описывает ситуацию так: “Мы, здесь, в аудитории, которая нами занята уже не по расписанию, а просто потому, что оказалась свободна, находимся по способу захвата и захваченности, потому что я говорю, в настоящей ситуации имею право говорить, уже только на свой риск и только от себя, уже не от имени кафедры, которая просит себе аудитории для своих курсов, а от моего собственного имени. С другой стороны, времени у студентов тоже нет, оно разобрано утверждёнными, давно отстоявшимися, входящими в учебный план предметами, среди них темы собственности и первой философии нет. Я захватываю место и время, требую от них раздвинуться, впустить мою тему, “выкладываемое” мною. Этот мой захват происходит в пространстве, которое и так давно уже захвачено и перезахвачено, в видимой или чаще невидимой войне… которая ведётся всегда” (Бибихин В.В. Собственность. Философия своего. – СПб.: Наука, 2012. С.24). В том же курсе, на С.269, Бибихин упоминает о том, что его пригласил “сюда” профессор Доброхотов.
15. Исследователь переводческой культуры современной России, автор книги, представляющей собой интервью с 88 переводчиками (среди которых – творческие собеседники Бибихина Ольга Седакова и Сергей Хоружий), Елена Калашникова так характеризует сложившуюся ситуацию: “Недостаточно разработан в отечественной гуманитарной мысли культурный феномен и социальная роль переводчика… Несмотря на то, что в современной России многие владеют иностранными языками, зарубежная книга или писатель неизвестны здесь до тех пор, пока не переведены на русский язык” (Калашникова Е. По-русски с любовью: Беседы с переводчиками. – М.: Новое литературное обозрение, 2008, С.5). В этой ситуации – целый клубок проблем, одна из которых (лежащая на поверхности) – о прагматике преподавания иностранных языков в советской и современной России, которая помогла бы увидеть вопрос в высказывании о “владении иностранными языками” в нашей стране – для чего владеют, как владеют, насколько владеют.
16. Большая часть переводчиков Хайдеггера на русский так или иначе соотносятся с переводами Бибихина. Евгений Борисов приводит в конце своего перевода “Пролегоменов” словарь соотнесения собственных вариантов немецких понятий с бибихинскими (Борисов Е. От переводчика/Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени. – Томск: Водолей, 1998, С.343). Александр Шурбелёв, взявшись за продолжение перевода, начатого Бибихиным, продолжает стратегию терминологического выбора последнего, тщательно обосновывая возникающие новые проблемы (Шурбелёв А. Послесловие переводчика/Хайдеггер М. Основные понятия метафизики. Мир – Конечность – Одиночество. – СПб.: Владимир Даль, 2013, С.564-591). Ольга Гучинская (“Введение в метафизику”) и Олег Коваль (“Положение об основании”) просто составили словарь собственных вариантов основных понятий, не соотнося его с переводами Бибихина (что можно объяснить почти одновременным выходом всех этих переводов – 1997-99 гг. соответственно). Из недавно изданных переводов: редактор перевода Татьяна Щитцова следует такой стратегии: “При переводе некоторых ключевых понятий мы использовали варианты, уже введённые в оборот другими переводчиками Хайдеггера. Так, различение определений existenzial и existenziell (коррелирующее, как известно, у Хайдеггера с различением онтологического и онтического уровней анализа) вслед за Бибихиным передаётся соответственно как экзистенциальный и экзистентный. Что касается понятия Dasein, то в большинстве случаев оно оставлено без перевода. Там же, где тем или иным образом обсуждается морфологическая структура этого понятия, в тексте используется перевод вот-бытие, предложенный Евгением Борисовым” (Щитцова Т. От редактора русского перевода/Хайдеггер М.Цолликоновские семинары. – Вильнюс: ЕГУ, 2012, С.390). Формирование традиции русских переводов Хайдеггера заслуживают особого упоминания, но, можно сказать, что с Бибихиным здесь дела обстоят намного более определённым образом, нежели в отношении его непереводческих работ.
17. Уже в 2007-ом году был фактически готов второй перевод на русский язык полного текста “Бытия и времени” в исполнении Евгения Борисова, издание которого – в силу разного рода причин – к сожалению не осуществилось. Наличие второго полного текста “Бытия и времени” на русском языке значительно облегчило бы задачу по осмыслению как особости Бибихина, так и развеяло бы иллюзию наличии “просто Хайдеггера”.
18. См., напр.: Бибихин В.В. Краткие сведения о житии и мысли св. Григория Паламы // Святой Григорий Палама. Триады в защиту священно-безмолвствующих. – СПб.: Наука, 2004. С.388-427. Пер. В.В.Бибихина.
19. См. один из примеров подобного непонимания: Нарумов Б. “Язык” лингвистики и “язык” философии. Contra Бибихин // Логос. 1. 1999. С.216-221. Автор, подобно упомянутому выше отзыву Аполлонова (там философ говорит о “Внутренней форме слова”, здесь же лингвист ведёт речь о “Языке философии”) предписывает Бибихину создание некоей “иррационально-естественной концепции языка”. Любопытно отметить следующее: “Бибихин известен как переводчик трудов Хайдеггера, и его собственная языковая концепция следует идеям знаменитого немецкого философа, пересказывать которые здесь нет никакой надобности: в книге Бибихина они представлены со всей полнотой и изложены ярко и образно”. Кажется, что нападение на Бибихина всё же менее безопасная вещь, чем нападение на Хайдеггера – ведь “бибихинцами” себя никто не признаёт, а вот “хайдеггерианцев” уже достаточно. При этом, дальнейшая критика автором Бибихина носит характер двусмысленности: то ли критикуется автор Бибихин и его концепция языка, то ли – идеи знаменитого немецкого философа, изложенные “ярко и образно”.
20. Опубликованные им самим и озаглавленные как “Из записей на тему самопознания”: Бибихин В.В. Узнай себя. – СПб.: Наука, 1998. С.226-575.
21. Понятное дело, никаких “просто переводчиков” не бывает. Этому посвящена (переведённая) книга Умберто Эко, наиболее популярно излагающего невозможность “простого перевода” (см.: Эко У. Сказать почти то же самое. Опыты о переводе. – СПб.: Симпозиум, 2006). Эффект существования “простого переводчика” возникает, как думается, при выполнении двух условий. Первое из них: переводчик не должен писать как переводимый им автор (но может писать о переводимом им авторе). Нарушение этого условия мы наблюдаем в случае поэтических переводов самими поэтами – типичной ситуации для России. Второе условие: перевод должен быть выполнен в устремлении к максимально возможной “закрытости” текста. Пояснить это условие – в пределах сноски – достаточно сложно, но можно указать на создание такого эффекта у возможного читателя переводного текста, согласно которому текст предстанет “таким – и всё тут”. Чтобы текст стал “легко используемым” для решения собственных вопросов, требуется, чтобы он как можно меньше создавал трудностей сам. По этому поводу Бибихин часто приводил такие примеры работы по “улучшению”, проводимые советскими редакторами, которые производили эффект “легкой используемости” работ Аристотеля (избегали тавтологии, вставляли синонимы и т.д.).
22. См. по этому поводу: Маяцкий М. Заметки о философском и словесном у Платона // Платоновский сборник. Т. Ι. – М.-СПб.: РГГУ-РХГА, 2013. С.92-103. Несмотря на то, что Михаил Маяцкий рассматривает проблему на примере Платона, сам способ её постановки заставляет задаться более принципиальными вопросами, касающимися способов имения дела в том числе и с наследием Бибихина: “Что же есть словесность для философа? Инструментарий? Неистребимый и нерастворимый в философии остаток, не покоряющийся никаким попыткам его обойти или без него обойтись? Или негативный носитель «непереводимости» - не с другого языка, а с языка «самой мысли»? Литературная сторона платоновских диалогов вызывала похвалу и восхищение взыскательных читателей, но философами долгое время расценивалась как изъян, препятствие для адекватного понимания мысли, или же как свидетельство несовершенства, незрелости этой мысли – только в ней не была усмотрена причина долголетия и дальнодействия платоновского философствования” (Там же. С.98-99). Перенося эти вопросы в наш контекст, можно смело сказать, что занятие Бибихиным требует от современного философа, погружённого в ритуализированную рутину академических привычек, добровольно перестать быть философом.
23. Последнее положение представляет собой лишь временную трудность, поскольку одним из питающих университетскую активность мотивов является как раз приручающее освоение “бунтарских” мыслителей: начиная с Ницше, проходя через Хайдеггера и Деррида. В российской философии был “освоен” Соловьёв и отчасти – Розанов. В этом смысле ироничными и, одновременно, показательными являются защиты кандидатских и докторских диссертаций по теме “философии Деррида” в рамках специальности “история философии” – как раз тогда, когда сам Деррида отрицал существование самой возможности подобной “специальности”. В академической среде в этом смысле формируются навыки выборочных глухоты и слепоты. Метафорически говоря, ситуация выглядит так, будто люди с психическими заболеваниями захватили власть в специализированном медицинском учреждении – и решили освоить специальные медицинские труды, обнаруженные в тамошней библиотеке. Они читают всё, сначала намеренно выпуская из вида упоминания о собственной невменяемости. Впоследствии традиция подобного чтения опустит навык такого выпускания из вида на уровень бессознательного и самоочевидного условия любого возможного чтения.
24. Или, например, такое рассуждение о нищете философии: “Самое плохое делают с философией, когда с ней что-то делают, берут и применяют, извлекают выводы. Надо запомнить, что философия не такая вещь, чтобы ею можно было что-то делать. Зачем же она тогда нужна? Не надо хитрить и лавировать: в ответ на этот вопрос надо иметь смелость сказать, что она не нужна. Тогда на неё перестанут ассигновать деньги те инстанции, которые имеют каким-то образом деньги и умеют их распределять” (Бибихин В.В. Чтение философии. – СПб.: Наука, 2009. С.58, курсив Бибихина). Через несколько страниц следует положение “великой правды”, которое вряд ли с лёгкостью примут педагогически-научные кадры России (как “философы”, так и не-философы): “нищета философии вещь не безобидная” (Там же. С.63, курсив Бибихина). О свалке см., напр.: “наша современность, когда захват идёт так широко, что захватывается и перезахватывается и так называемое «наследие», культурное, философское, научит другому, отправит на свалку «философию», которая пошла в прошлое искать оскорблённому сердцу уголок, академическую нишу, сказав, что захват дело приватизаторов, а её, философию, интересуют вечные ценности” (Бибихин интересуют вечные ценности” (Бибихин В.В. Собственность. Философия своего. – СПб.: Наука, 2012. С.24-25).
25. Курьёзным случаем, который не хотелось бы даже упоминать здесь, является “проект Александра Дугина”, который на уровне массового сознания пытался заняться приватизацией уже так или иначе, но стихийно народившейся массы “хайдеггерианцев”, предлагая совершенно банальное и неадекватное истолкование Хайдеггера. При этом, понятное дело, сама идея такого проекта возможна лишь там, где исполнено два условия (характеризующих российское “хайдеггерианство” в его массовом изводе): необходимо, чтобы люди знали – “кто такой Хайдеггер”, а именно – что это “великий мыслитель”, но, во-вторых, не представляли себе о нём ничего предметного. “Проект Дугина” может быть рассмотрен как особый способ намеренной консервации такого положения дел. Стоит ли говорить о том, что, по мнению Дугина, “долгое время им [Хайдеггером] занимались какие-то случайные люди, один из них был сумасшедший покойный Бибихин. Если люди не могут толком перевести Генона, который сложен, но прост, то Хайдеггер, который сложен и сложен, конечно, остался недосягаем. Поэтому его можно кое-как читать по-французски, кое-как – по-английски, но уж по-русски я просто не говорю. Если вы что-то читали или слышали о нём, всё, забудьте, это чушь собачья” (расшифровка из лекции “Мартин Хайдеггер. Месть бытия”).
26. Ср., напр.: “Что со мной происходит? За что я ни возьмусь – я отдёргиваю руки хуже, чем от горячего: как от заразного. Ни к одному «понятию» притронуться без оговорок нельзя, всё требует прояснения. Как же буду прояснять далёкие «древние» вещи я, находящийся в непрояснённом положении, даже здесь сейчас говорящий на птичьих правах, дожидаясь, когда его попросят с кафедры и с философского факультета как не встроившегося в систему подготовки профессиональных философов? И всё-таки я снова удержусь от панического принятия мер и от подстраивания к тому или другому надёжному потоку. Я сделаю совсем другое. Раз подо мной так ходит земля, я рискну на признание своей необеспеченности и шагну даже не как в болото, из которого себя вытаскивал за волосы барон Мюнхгаузен, а как в омут очертя голову” (Бибихин В.В.Собственность. Философия своего. С.15). И тут же, ниже: “…я стою с пустыми руками и говорю…”.
27. Опыт некоторых таких общений был зафиксирован им самим (этот вопрос, возможно, прояснится после опубликования дневников), например в книге: Бибихин В.В. Алексей Фёдорович Лосев. Сергей Сергеевич Аверинцев. – М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2004.
28. См., напр., сразу две статьи о Ницше под одной обложкой: Бибихин В.В. На подступах к Ницше // Ницше и современная западная мысль. Сб.статей. – СПб.; М.: Европейский университет в Санкт-Петербурге: Летний Сад, 2003. С.290-329; Бибихин В.В. Ницше в поле европейской мысли // Там же. С.330-345.
29. Бибихин В.В. Поэт театральных возможностей // Res Cogitans #3: (Без)Умное искусство. – М.: Книжное обозрение, 2007. С.66-95. Позже напечатано в: Бибихин В.В. Слово и событие. Писатель и литература. – М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2010. С.288-314.
30. По поводу темы дружбы в близком для Бибихина сообществе его друзей, см. книгу: Федье Ф. Голос друга. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2010, в переводе (и с замечательными предваряющими “Заметками переводчика”) Ольги Седаковой.
31. В курсе “Чтение философии” Бибихин специально, в самом начале, рассматривает прагматику хранения текста: “…за филологической гиперкорректностью исследователей и публикаторов философских текстов часто стоит вот это, отчаяние, что всё равно неуловимое, неостановимое расползание источника мысли будет, и надо во что бы то ни стало источник защитить, сохранить” (Бибихин В.В. Чтение философии. – СПб.: Наука, 2009. С.9-10, курсив Бибихина).
32. Бибихин В.В. Чтение философии. С.8-9, курсив Бибихина.
33. Ср.: “Защита обезьяны против Хайдеггера, против невежества в зоологии, справедливо отмеченного – априори справедливо, Хайдеггер не зоолог – Жаком Деррида, была сразу конечно замечена в Париже: Хайдеггер не протянул братскую руку дружбы обезьяне, а Деррида протянул. Париж такой” (Бибихин В.В. Деррида читает Хайдеггера//Деррида Ж. Позиции. – М.: Академический проект, 2007. С.157). Проблема чтения одним философом другого – вот подлинная проблема: “Маркс помог Гегелю выправиться из необычного положения на голове и вернуться к удобному стоянию на ногах. Все черты, о которых я говорил выше, черты потоптания жеребёнком родившей его кобылы, которые Платон заметил у Аристотеля и которые повторились и у других носителей философской традиции, я назвал троих, все эти черты у Жака Деррида в отношении к Хайдеггеру есть, и это как будто бы должно успокаивать; но у него же есть черты чтения именно того рода, каким Маркс читал Гегеля: рядом с защитой учителя перестановка его с головы на прочные и на всем понятные ноги: национальность, языковая стратегия, секс” (Там же, С.154-155).
34. Данная гипотеза, но применительно к творчеству самого Хайдеггера высказана нами ранее в: Богатов М.А. Два Аристотеля в пределах мысли Хайдеггера // Рабочие материалы конференции “Мартин Хайдеггер и философская традиция: повторение vs. демонтаж”. – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2012. С.44-52.
35. Сконцентрировавшись лишь на некоторых – и то крупных – штрихах творческого наследия Владимира Бибихина, мы, понятное дело, не говорим о само собой напрашивающихся исследованиях, которые позволили бы академической среде вовлечь исследования Бибихина во вполне привычное русло, в которых речь шла бы о месте Бибихина среди советских и российских философов его времени, сравнении его с фигурами того времени, а также изменении тем его философствования по мере приобщения или отдаления от тех или иных официальных образовательно-научных институций. Опыт подсказывает, что о такого рода исследованиях даже не стоит особо упоминать, поскольку – рано или поздно – они не заставят себя ждать и непременно появятся. И произойдёт это в тот самый момент, когда сама невозможность говорить о Бибихине войдёт в кричащее противоречие с невозможностью больше этого не делать. Учитывая консервативность интеллектуальной среды, а также требуемое время для формулирования ею собственных задач, стоит ожидать “автоматического” появления подобных исследований уже в ближайшие лет 10-15.
36. Бибихин В.В. Наше положение // Наше положение: Образы настоящего. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 2000. С.81.

0 комментариев