СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЩНОСТИ И ИДЕЯ ПАТРИОТИЗМА. А.Малинкин
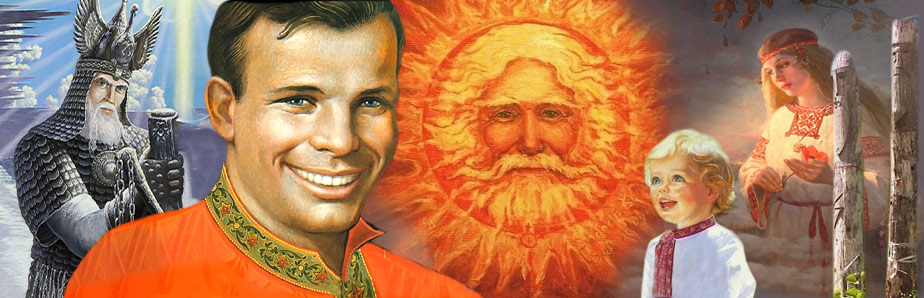
Малинкин А.
Социальные общности и идея патриотизма
Малинкин Александр Николаевич – кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института социологии РАН. Адрес: 117259 Москва, ул. Кржижановского, 24/35, строение 5. Телефон: (095) 120-82-57. Факс: (095) 719-07-40. Электронная почта: alexmalina@mtu-net.ru
Статья подготовлена в рамках исследования "Реструктурирование социологического сообщества в России" (грант Российского фонда фундаментальных исследований, N 00-06-80108). Статья является продолжением публикации: Малинкин А.Н. Понятие патриотизма: эссе по социологии знания // Социологический журнал. 1999. N 1/2.
Патриотические чувства и взгляды формируются под влиянием множества факторов. К ним относятся природно обусловленные, или "естественные", связи и отношения между людьми, все многообразие социально-культурных связей и отношений, а также идеальные, духовные связи и отношения. На наш взгляд, это триединство выражает саму сущность человеческого бытия: как "чисто животное", так и "чисто духовное" в человеке без социально-культурного опосредования – это пустые абстракции. Анализ социальных и культурных опосредований "материальных" и "идеальных" связей и отношений составляет специфику предметной области социологии знания, которая изучает взаимное влияние социальных отношений и человеческого сознания и знания.
Под динамикой социальных отношений имеются в виду интеграция и дезинтреграция, соединение и разъединение, ассоциация и диссоциация, образование единств и дифференциация, сплочение и распад, солидаризация и раскол и т.п. С одной стороны, социальные общности оказывают воздействие на патриотические чувства и взгляды личности в процессе ее социализации ("обобществления"), с другой стороны, члены этих общностей являются относительно независимыми, самостоятельными и свободными личностями.
Под социальными общностями имеются в виду прежде всего национальная, культурная, религиозная, историческая и государственная общности. Речь идет о социальных единствах, которые отличаются по меньшей мере тремя необходимыми признаками: основанной на взаимном доверии солидарностью; социальной связанностью; взаимностью обязательств. Такая трактовка социальной общности соответствует теннисовской «soziale Gemeinschaft» [1] и не противоречит тому, что М. Вебер понимал под "объединением в общность" (Vergemeinschaftung) [2, S. 21-23], поскольку за социологическим номинализмом, как и за социологическим реализмом, следует признать относительную правоту [3, S. 430-438].
Патриотизм и национальная общность
Нет и не может быть такой национальности, одна лишь принадлежность к которой давала бы исключительное или монопольное право считать себя "истинным" патриотом. Тем не менее, любовь к родине всегда имеет национальный характер, поскольку субъект патриотических чувств и взглядов всегда принадлежит к определенной расе, национальности, этносу. Действительно, мы любим нашу родину не как абстрактные "человеки" – этнически стерильные гуманоиды, которые якобы лишь по мере взросления и социализации "приобретают" принадлежность к определенной нации, рационально выбирая, идентифицировать себя с ней или нет. С феноменологической точки зрения, дело обстоит как раз наоборот. Более того, уже генотипически, а также бессознательно (через жизненные образцы) мы "укоренены" в родной земле и любим ее именно как русские, украинцы, белорусы, татары, евреи и т.д. По мере взросления и социализации мы "осознаем", как оригинально проявляются и индивидуально выражаются в нашей личности родовое и народное начала, этнические особенности и черты национального характера, – и только на основе этого сознания происходит самоидентификация с "родным" этносом, а впоследствии вырабатывается самосознание "человека вообще", представителя "человечества" или "земной планетарной цивилизации". В этом смысле все, кто любит родину, – националисты, поскольку полноценная любовь к своей родине предполагает любовь к своему народу. Но не служит ли реабилитация понятия "национализм" оправданию расовой и национальной розни, расизма и нацизма? Нет.
Взгляд на новорожденного, а затем и взрослеющего человека как на то, что с расово-этнической точки зрения есть tabula rasa, – рационалистический гуманитаристский атавизм эпохи Просвещения, необходимо связанный с космополитическим представлением о "равенстве всех людей по природе". Существует мнение, что это представление восходит к идее вселенского единства во Христе. Ссылаются на Апостола Павла: "...Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе" (Гал. 3: 27-28). На самом деле идея единства во Христе не имеет ничего общего с таким представлением, кроме внешнего сходства. Равенство всех перед Богом отнюдь не отрицает значимости расовых, этнических и родоплеменных различий между людьми (как и всех иных физически-телесных различий, например, пола, возраста, природных способностей, а также социальных различий, например, богатства, положения в обществе). Все христианские конфессии выступают против переоценки, завышения значимости различий, а именно – против основанных на этих различиях и апеллирующих к ним притязаний на расовое, национальное, этническое и прочее превосходство. Христианство отрицает превосходство бедного перед богатым точно так же, как и богатого перед бедным, как мужчины перед женщиной, так и женщины перед мужчиной, как правителей перед подданными, так и подданных перед правителями. С точки зрения христианства, достоин осуждения и опасен не национализм как любовь к своей нации, народу, роду и племени, а национализм как ненависть к чужой нации, иному народу, роду и племени.
Таким образом, христианством отвергается греховное извращение любви инстинктивным влечением к власти и господству. Это влечение находит сублимированное выражение в идее "богоизбранности", "особой исторической миссии" одного отдельного народа. Сотворение народом "кумира" из самого себя – вот что с христианской точки зрения неприемлемо; именно оно в первую очередь и отрицается христианством.
На языке социологических описаний это означает, что для общества опасен не национализм, а его политизация. В первом приближении политизация национализма есть не что иное, как экспансия политики на сферу национальных отношений, ее политическая "колонизация". Например, когда говорят о придании национального характера политическому конфликту, речь идет именно о политизации национальных отношений, а не "национализации" политических. На сферу национальных чувств и взглядов, на всю традиционную национальную культуру и уклад жизни распространяется специфический для политической сферы способ мировосприятия. При ближайшем рассмотрении это означает, что к социальной реальности и ее национальному измерению начинает прикладываться единственный, претендующий на тотальность масштаб – соответствие отношениям власти, прежде всего отношениям господства и подчинения. Национальное (и социальное вообще) воспринимаются лишь как то, что на бессознательном уровне согласуется или не согласуется с властолюбивыми импульсами, а на сознательном уровне – с "интересами", сформированными на их основе целями, а также возможностями и средствами их достижения. Подчинение национального инстинкту власти – это не "национальные особенности политики", не "политика в национальной сфере" и не "национальная политика": сам национальный способ бытия начинает восприниматься и осознаваться людьми как сущностно-небходимо связанный с властными отношениями.
Такое национальное самосознание может сводиться, например, к простой формуле "принадлежать к данному народу (расе, нации, этносу) – значит быть господином всех других народов, быть выше их в природном, нравственном, общественно-статусном отношениях", или "быть представителем данного народа (расы, нации, этноса) – значит быть лучшим, например, самым свободолюбивым и гордым человеком, который никогда и ни при каких обстоятельствах не потерпит подчинения другим народам" и т.п. Так, у народа, покоренного другим народом или потерпевшего поражение в войне, появляется сознание униженного национального достоинства. Он может примириться с этим и увидеть собственное предназначение ("судьбу") в служении "высшей расе", "народу-господину", "главенствующей нации", а потом частично или полностью ассимилироваться. Он может не примириться, сопротивляться и, в конце концов, освободиться от ига, восстановив самоуважение и сознание национального достоинства. Он может также не примириться, но оказаться неспособным освободить самого себя, и тогда уязвленное чувство национального достоинства, жажда мести и ненависть к захватчикам в сочетании с реальным бессилием ведут к формированию национального ресентимента, который затем наследуется из поколения в поколение как элемент национального самосознания. Национальное в широком смысле слова – язык, культура, религия, уклад жизни и т.д. – тотально политизируется, поневоле "заражаясь" властным мироотношением (хотя бы и в отрицательном смысле, если дело доходит до ресентимента). Вывод о принадлежности к "избранной касте господ" или "забытой богом касте рабов" на основании принадлежности к определенному народу (расе, нации, этносу) – миф, несмотря на правдоподобные аргументы, например, из истории, антропологии, культуры и т.д. Так, у народа, долгое время господствовавшего над другими народами и выработавшего имперское самосознание – "комплекс сверхполноценности", – могут быть действительные преимущества перед народами, находившимися в его подчинении или в зависимости от него, в том числе даже антропологические. Они накапливаются из поколения в поколение благодаря занятию определенными, главным образом интеллектуальными, видами деятельности, например, управлением, исследованием, созерцанием. В качестве "аргумента" могут быть использованы также и любые реально существующие различия между народами, например, особенности национального характера (северных и южных, западных и восточных народов, Старого и Нового света и т.п.).
В чем заключается специфика властного мироотношения и мироощущения? Как известно, "воля к власти" выражается в стремлении установить собственное господство, первенствовать (лидировать), превосходить, доминировать и контролировать, править и управлять и т.п., а также в готовности к подчинению, послушанию, покорности, лояльности, согласию и т.п. и ожидании от других точно такой же готовности. Все, что препятствует утолению этого глубинного человеческого влечения, вызывает агрессивную реакцию, которая в своем крайнем выражении нацелена на физическое уничтожение препятствия. Эпифеноменом инстинкта власти, большей частью бессознательного, является смутное чувство враждебности ко всему, что вызывает сопротивление. Однако на более или менее сознательном уровне происходит различение "врага" (препятствия) и "друга" (того, что помогает преодолеть препятствие). Причем внутренней закономерностью политической сферы, определяющей ее специфику, является то, что идентификация "врага" феноменологически первична, "друга" – вторична.
Люди склонны выдавать свою враждебность к препятствиям, стоящим у них на пути, за дружелюбие к тому (тем), что (кто) им не мешает, а стремление расправиться с "врагами" – за желание защитить "друзей". Так, в старые времена правители, стремясь в агрессивной войне против соседнего государства захватить чужую территорию, поработить и ограбить чужой народ, часто уверяли свой народ, что хотят защитить его от соседа-"врага", от которого, дескать, исходит угроза, и с помощью казенного патриотизма успешно вербовали армии "защитников отечества". Обработка общественного мнения строится обычно на демонизации противника, "политике двойных стандартов", требующей от ее глашатаев органической лживости. Такие рациональные псевдооправдания иррациональных по своей сути влечений В. Парето называл "дериватами".
В сфере межнациональных отношений стремление к превосходству и господству проявляется в первую очередь в идентификации других народов и их представителей ("иностранцев", "инородцев", "иноверцев" и т.п.) как "врагов", а представителей своего народа ("наших") как "друзей". Таким образом, политизация национального делает "чужих" "врагами", "своих" – "друзьями". Эта простая, на первый взгляд, подмена в действительности бывает не так очевидна, если принять во внимание, что политическая элита или ее отдельные представители зачастую стремятся ввести народ в заблуждение с помощью псевдопатриотической фразеологии, подыгрывая обыденной ксенофобии. Если им это удается, то у наиболее внушаемой части общества любовь к своему народу (национализм как любовь) превращается в болезненную, доходящую до фанатизма страсть (национализм как ненависть к "чужим", замаскированную под ложную любовь к "нашим").
Национальная общность оказывает иногда решающее влияние на формирование патриотизма. Так, в России русский среди русских обычно чувствует себя "дома", а это – предпосылка естественного ("инстинктивного") патриотического чувства. Тем не менее расовая или этническая общность редко бывает исключительным фундаментом патриотизма, несмотря на всю "естественность" такого отношения. Национальный характер любви к родине – необходимая, но не достаточная основа патриотизма. В современном мире едва ли найдется монорасовое, а тем более моноэтническое государство. "Национальное государство" – утопическая регулятивная идея (в кантианском смысле) государственного оформления национальной общности; исторический опыт свидетельствует о том, что в действительности она никогда и нигде не была реализована. Российская Федерация являет собой пример полирасового, многонационального, полиэтнического государства, где к тому же многие национальные и этнические группы исторически расселены отчасти смешанным образом, отчасти компактно. Национальный патриотизм, или патриотизм на национальной основе в ней очень распространен (особенно среди русских), однако он вряд ли может претендовать на то, чтобы быть единственной формой патриотизма.
Кроме национального патриотизма, в современном "посткоммунистическом" российском обществе широко распространен патриотизм на "интернациональной" основе. Имеется в виду два вида патриотизма: во-первых, патриотизм на основе "реального интернационализма", то есть фактически сложившегося внутреннего сверхнационализма; во-вторых, патриотизм как составная часть идеологии бывшего советского государства, или "советско-имперский" патриотизм. Последний сегодня – хотя и "пережиток прошлого", но еще весьма действенный элемент практического сознания россиян старшего и отчасти среднего поколений. Причина его актуальности – в ностальгии по СССР как "дружной семье народов", а также в глубочайшем разочаровании и ресентименте, которые возникли у многих граждан России после распада СССР. Возникает вопрос: что же такое "интернациональный патриотизм" как составная часть советского имперского сознания? "Интернациональный патриотизм" ("интернационал-патриотизм") – это либо форма патриотического сознания на этапе его становления, когда в ходе социализации патриотических чувств и взглядов еще не в полной мере осмыслена значимость национального наследия и не завершена национальная самоидентификация, либо форма извращения зрелого патриотического сознания на этапе его распада под влиянием ресентиментной идеологии, отрицающей непреходящую ценность любви к родине в системе человеческих ценностей. В любом случае интернациональный патриотизм – феномен внутренне неустойчивый, недолговечный, имеющий тенденцию к саморазрушению.
Разновидностью патриотизма на национальной основе является двойной патриотизм членов национально-этнических диаспор, существующих практически во всех государствах мира: у большинства членов диаспор две родины – историческая (страна предков) и собственно родина (страна, где они родились и постоянно живут). Например, у многих выходцев из России, живущих в США, Великобритании, Франции, Германии и других странах, сохраняется эмоциональное отношение к России как исторической родине, и в то же время возникает патриотическое чувство к этим странам. По мере ассимиляции, происходящей у разных этносов в разных странах с разной скоростью, любовь к исторической родине постепенно ослабевает, но при определенных условиях она, как тлеющие угли, может вспыхнуть с новой силой.
Национал-патриотизм и социал-патриотизм
Патриотизм на национальной основе и национализм, питаемый патриотическими чувствами и идеями, – близкие, но не идентичные феномены. У них разные объекты любви и почитания: с одной стороны, "родной край", "родная страна"; с другой – "нация", "народ". Это сказывается на характере и направленности обращенных к ним эмоций. Обыкновенно патриотизм сочетается со здоровым национализмом, чувством и сознанием национального достоинства, некичливым уважением к самому себе как представителю определенной национальной общности. И наоборот, здоровый национализм предполагает любовь к родной стране.
Но такое нормальное сочетание бывает далеко не всегда. Например, можно быть патриотом – в том смысле, что любить свою страну, – но в то же время по разным причинам недолюбливать, а то и ненавидеть населяющий ее народ. Такой, основанный на чувстве национальной неполноценности, патриотизм можно назвать "социал-патриотизмом". В его основе лежит абстрактно-гуманистическая вера в силу человеческого разума, в кумулятивный социальный прогресс, в универсальность (а часто и автоматизм) действия исторических и социальных законов, технократическое убеждение, что благоустроить общественную жизнь можно и без помощи народа, хотя и для народа, что народ надо вести к просвещению и счастью, даже если он сопротивляется. Существует и "национал-патриотизм" – неполноценный, основанный на ресентименте агрессивный радикальный национализм. Он имеет место тогда, когда болезненно-навязчивая "любовь" к своему народу лишь маскирует ненависть к определенным социальным общностям или обществу в целом (социопатию), либо ненависть к "чужакам" (ксенофобию) – инородцам, иноверцам, иностранцам или "продавшимся своим", – которые якобы оккупировали родной край или родную страну и "паразитируют" на коренных жителях. В результате возникают такие извращенные формы национализма, как расизм, нацизм, национал-шовинизм и т.п.
Эти две неполноценные формы патриотического сознания, искаженные ненавистью вследствие своей изначальной половинчатости, являются традиционными формами российского патриотизма. В отличие от контрпатриотизма они исходят не из ясного осознания различия между "родной страной" и "теми, кто говорит и действует от ее имени", осознания, предполагающего целерациональные действия, а из различений иного характера – инстинктивных, аффективных, эмоциональных. Подобно тому, как недолюбливающий своих соотечественников "социал-патриот" обречен во имя родной страны вечно бороться с собственным народом, "национал-патриот" вынужден во имя народа бороться против собственной страны. Если первому, чтобы спасти отечество, нужен другой, "переделанный", народ (а имеющийся в наличии часто рассматривается как "быдло"), то второму, чтобы спасти народ, требуется другая, "переделанная", страна.
У обеих разновидностей ущербного патриотизма в российском обществе есть давние традиции – славянофильство и западничество, народничество и большевизм. Если народничество боготворило русский народ и ненавидело царское самодержавие, то большевизм подхватил державную (потом и самодержавную) идею и откровенно презирал русский народ. Внутренняя расколотость российского патриотизма наблюдается не только в новейшем общественно-политическом процессе*, но – что представляет особый интерес для социологии знания – и в отечественной социологической мысли. С одной стороны, в ней все еще жива консервативная народническая идеология с русофильским мифом о "еще неразложившейся нравственной субстанции народа" и миссией спасения человечества. С другой стороны, после 1991 г. в ней еще более укрепилась западническая либералистская утопия о возможности "научной" социологии, свободной от мировоззренческих, прежде всего "почвеннических", ценностей.
Патриотизм и культурная общность
Ядром всякой культурной общности является общность языка. Поэтому не удивительно, что языковая общность стимулирует развитие патриотического сознания. В определенных условиях, например, за пределами родного края или родной страны, общность языка оказывается главным фактором, который сплачивает представителей одного народа (даже если они принадлежат к разным этническим группам) в общность земляков или соотечественников. Базис и корпус языковой общности образует народная масса, говорящая, читающая и пишущая на так называемом живом "разговорном", или "естественном" языке. У нее есть также надстройка в виде культурных элит, профессионально использующих язык образованных слоев населения – так называемый "литературный" язык – журналистика, публицистика, беллетристика, поэзия и т. д.
Культурная надстройка языковой общности, с одной стороны, перерастает в культурную общность, а с другой стороны, поскольку у многообразных форм культурного творчества есть собственная и автономная экзистенциальная основа, – непосредственно с ней смыкается. Религия, искусство, философия, наука, право и другие формы культуры применяют, кроме литературного языка, специальную терминологию, свои особые стили речи и изложения, которые имеют тенденцию к интернационализации и универсализации. Последняя в наибольшей степени характерна для науки.
Общеизвестен тот факт, что представители культурных элит – "интеллигенция" (в России), "интеллектуалы" (на Западе) – первыми вступают в патриотические баталии, предлагая, а то и навязывая народу свое отношение к родной стране в данный исторический момент. Они могут спровоцировать рост патриотических настроений в обществе, либо, наоборот, поднять волну антипатриотизма; как правило, именно они выдвигают контрпатриотические идеи и занимаются их критикой. В современном обществе именно "интеллигенция", или "интеллектуалы" – будучи в определенном смысле "мозгом нации"** – все больше берет на себя функцию полагания ценностей, выработки мировоззрения, и влияет тем самым на отношение к родине.
Сегодня на фоне быстрой компьютеризации, упадка престижа культуры и образованности электронные средства массовой коммуникации, в первую очередь телевидение, отняли пальму первенства у художественной литературы и публицистики, традиционно игравших в России главную роль в формировании общественного мнения. Именно масс-медиа – а не учебные заведения, не гении национальной культуры, не отечественные "художественные" фильмы, не "толстые" литературно-публицистические журналы, как прежде, – оказывают преобладающее влияние на формирование отношения к родине у российских граждан. Стремительный рост веса и значимости средств массовой информации в социуме в конце ХХ в. дал повод назвать их "четвертой властью".
Во времена горбачевской "гласности" в нашей стране началась модернизация деятельности средств массовой информации, которая после 1991 г. вылилась в настоящую виртуальную революцию. Но задержка в развитии по сравнению с Западом привела к тому, что западные модели понимания целей и средств работы масс-медиа, объективности информации, ее подбора и подачи стали восприниматься не только как адекватные новому этапу эволюции российского общества, но и как единственно возможные. Непатриотичная позиция отечественных средств массовой информации (особенно центральных), ориентированная на "новое мышление" с точки зрения "общечеловеческих ценностей", привела к тому, что они внесли и продолжают вносить немалый вклад в дезинтеграцию российского общества, в прививание отвращения ко всему родному, отечественному.
Конечно, престиж русского языка как средства международного общения и национальный престиж, связанный с принадлежностью к "сверхдержаве", упали вместе с развалом СССР, а не в результате "подрывной" работы отечественных средств массовой информации. Но когда их представители утверждают, что задача СМИ – быть всего лишь зеркалом, отражающим действительность, они либо расписываются в том, что стали жертвами идеологического манипулирования, либо лгут. Виртуальные жизненные образцы, распространяемые электронными средствами массовой информации России, находятся в столь вопиющем противоречии с реалиями российской жизни, словно они специально предназначены для окончательного разрушения традиционных нравственных устоев и национального уклада жизни, частично унаследованных молодежью. Происходит вестернизация образа жизни в целом и духовной жизни в частности [4, с. 120]. Вестернизация опасна не столько тем, что навязывает россиянам новые моральные и жизненные образцы, сколько тем, что искусственно разрушает складывавшуюся веками естественноисторическую социоэтологическую систему России. Разрушение традиционной социальности внутри российского общества [5, с. 75-76] – процесс, аналогичный нарушению биоценоза, – ведет к "вымиранию", вследствие утраты традиционных социальных ниш, целых подсистем этосов внутри русского этноса и других этносов России. В итоге русский народ и другие народы России теряют свою национальную самобытность и способность к социокультурному самовоспроизведению. В конечном счете, это пагубно сказывается на всем российском обществе: теряя свою этнокультурную идентичность, составляющие его народы не только перестают "понимать" друг друга, но и теряют способность находить "общий язык". Вестернизация России приводит к обратным результатам – если считать, что ожидаемым результатом должно было стать превращение homo sovieticus в homo capitalisticus. Вместо цивилизованного западного "рынка" в России образовался "восточный базар", а вместо установления мирных "договорных" отношений, которые должны быть "дороже денег", ведется скрытая гражданская война, воскрешающая худшие страницы истории России (княжеские междоусобицы и родовые распри времен феодальной раздробленности). Таким образом, в расплату за антипатриотическую вестернизацию мы получили истернизацию и архаизацию жизненных реалий [6, с. 28; 7, с. 144].
Любовь к родине обычно связана с конкретным образным содержанием воспоминаний, представлений и психологически ассоциируется с "родной землей". Однако в данном случае речь идет не об индивидуальной психологии, а об интерсубъективной логике смыслов, приводящей к определенной связи феноменов сознания в фило- и онтогенезе, то есть в истории жизни народов и истории жизни индивидов. Имеется в виду "земля", "почва" в культурологическом смысле слова. В этом смысле "отрыв от родной почвы" означает утрату национально-культурных ценностей и ориентиров. Специфика "почвеннической" оценки заключается в том, что она дается с точки зрения традиционной национальной культуры, а именно изнутри этой культуры по отношению ко всему, что воспринимается как "отстранившееся", "отчудившееся". Она всегда мотивирована консервативным стремлением сохранить в неизменном и неприкосновенном виде то, что находится внутри традиционной национальной культуры. Выход за ее рамки может быть следствием совершенно разных причин – от разрыва с отечественной традицией в чисто эгоистических интересах до отказа следовать традиционным жизненным образцам во имя их обновления и созидания новых.
Патриотизм и религиозная общность
Влияние религиозной общности на формирование патриотических чувств и взглядов весьма существенно, хотя и не всегда актуализировано в общественном сознании. У всех народов мира религия была исторически первичным интегративным фактором, под воздействием которого формировалось национально-этническое единство, особенно в эпоху, предшествующую возникновению государства. В средние века в Европе религиозная и государственные общности стремились к взаимосоответствию и даже слиянию (в теократии), образуя реальную социальную основу планетарного, "священно-имперского" сознания [8]. В России, ставшей преемницей религии, культуры и государственности Византии, московские цари перенесли на русскую почву византийскую идеологию государственной власти, в свете которой могущество православия должно было зримо выражаться через государственное могущество [9]. Социально-интегративная функция религии обретала особое значение в периоды временного ослабления государственной власти. При этом религия постоянно играла важнейшую роль как системообразующий элемент духовной культуры.
В течение веков религиозные верования и национальные особенности сплавлялись в единое целое, определяя своеобразие национального мироощущения и мировоззрения, традиций и обычаев, обрядов и ритуалов, нравственных устоев и всего уклада жизни, так что сегодня в большинстве случаев невозможно определить, что в национальном характере происходит из преобладающего этноса, а что – из господствующего религиозного этоса. Принадлежность к религиозной общности, несомненно, укрепляет любовь к родине, в особенности там, где эта религиозная общность охватывает большую часть населения страны, отделенную государственными границами от общности иноверцев. Вот почему патриотизм традиционно понимают прежде всего как любовь к родной земле, земле предков, которые как бы освятили ее "истинной" верой.
Понятие религиозной общности может пониматься узко и широко, то есть как общность верующих, исповедующих определенную религию, и, соответственно, как общность традиционно связанных с определенной религией людей, среди которых могут быть как верующие в строгом смысле этого слова (входящие в религиозные общины, отправляющие культ, следующие религиозным предписаниям и т.д.), так и неверующие. Религиозная общность в последнем, традиционалистском, смысле тесно смыкается с национальной, языковой и культурной общностями. В этом смысле и надо толковать давно известные, но фактически неверные стереотипы, вроде "Россия – страна православная", или "русские – народ православный", "поляки – католики", "татары – мусульмане" и т.п.
Патриотизм в своих высших зрелых проявлениях – одухотворенное чувство, близкое религиозному. Духовная любовь к родине предполагает отношение к ней как к чему-то священному и, с психологической точки зрения, переживается как нечто глубоко личное и "святое". Однако святость отечества может пониматься и переживаться превратно, если родину начинают боготворить и превращают в объект культа, заменяя ею – бессознательно или сознательно – первоисточник святости, Бога (что, разумеется, искажает и саму религиозную веру). Превращение отечества в кровожадного идола, требующего ритуальных жертвоприношений, характерно для фанатичных, как правило, религиозно-фундаменталистски ориентированных сторонников ультранационалистических и сепаратистских партий и движений, ведет к расизму, национал-шовинизму, политическому экстремизму и терроризму.
У большинства людей любовь к родине чаще всего не достигает того уровня "чувственно-сверхчувственной" экзальтированности, на которых может произойти превращение патриотизма в маниакальную одержимость, патриотический фанатизм, или патриоманию. Обычно люди вообще не "любят" родину, а просто "привержены" ей или "привязаны" к ней – столь же безотчетно, как к матери. Поэтому отклонения в их патриотических чувствах обычно вполне умеренны: им бывает "обидно за державу", но иногда они сами "обижаются" на родину, когда им кажется, что она не востребовала или недооценила их таланты, они испытывают по отношению к ней досаду, огорчение, злость, гордятся и кичатся ею, восхваляют и хулят ее и т.д. Секуляризация западного христианского мира, охватившая за последние два столетия и Россию, подорвала институт религиозного образования и способствовала "обмирщению" чувств вообще и любви к родине в частности. Не удивительно, что сегодня у многих патриотические чувства уподобляются эмоциям, переживаемым в половой любви или в отношениях между родителями и детьми.
В настоящее время, когда научно-коммунистическая идеология перестала быть государственной, а российское государство не имеет никакой официальной идеологии (кроме примитивной и, как правило, непатриотичной фразеологии либерального толка), влияние трех основных традиционных конфессий в вопросе воспитания любви и уважения к родному отечеству в России чрезвычайно возросло. Правда, не только они взяли на себя эту задачу государственной значимости. Многие политические, общественные и культурные организации России апеллируют ныне к патриотизму вкупе с фундаментальными религиозными ценностями. В таком религиозно-фундаменталистском патриотизме они видят эффективное средство для достижения собственных целей. Как правило, эти цели имеют мало общего с подлинным духом той или иной религии, воскрешая скорее архаичные языческие верования и жизненные образцы. Однако подлинные цели далеко не всегда очевидны; в программных идеологических произведениях "теоретиков" они обычно замаскированы благородными намерениями.
Новые реалии жизни после 1991 г. породили и новые социально-значимые стереотипы поведения. Так, признаком "нового русского" стиля жизни стала внешняя, нарочитая религиозность, которая выражается в демонстративном посещении церквей, мечетей, синагог, соблюдении некоторых религиозных обрядов и ритуалов и т.п. Все это призвано символизировать причастность к определенной религиозной общности, верность исконным национальным традициям и, тем самым, патриотизм. На наш взгляд, эти поведенческие стереотипы не оказывают существенного влияния на формирование патриотических чувств и взглядов, так как в большинстве случаев являются следованием моде, формой социальной или политической мимикрии, призванной прикрыть асоциальный, а иногда и криминальный образ жизни.
Правда, не следует вообще переоценивать влияние религии на образ родины в посттоталитарном российском обществе – ведь семьдесят лет вера в бога рассматривалась коммунистическими правителями как социально-вредное или даже отклоняющееся поведение. И хотя подлинных атеистов в России мало, в ней очень много религиозно-индифферентных людей, не связывающих себя даже с традиционалистски понимаемой религиозной общностью. Между тем, неискоренимая человеческая потребность в вере в высшее, сверхиндивидуальное существо и общении с единоверцами в сплоченной общности привели к тому, что уже в годы перестройки некоторые, а после 1991 г. многие из таких людей отошли от традиционных для России религиозных общностей или оказались в зоне влияния тоталитарных сект типа сайентологии, "Аум синрике", "Богородичного центра", "Белого братства" и т.п.
Едва ли способствует укреплению любви к родине ситуация, когда верующий эмоционально или интеллектуально ориентируется на церковный центр своей религии, базирующийся либо в Риме, либо в США, либо в Японии, либо в Тибете. К еще более пагубным последствиям приводит отказ от собственной матери, от отчего дома, от собственного имущества, которого настоятельно требуют от членов некоторых нетрадиционных церквей и сект.
Патриотизм и историческая общность судеб
Историческая общность понимается прежде всего как общность судеб страны и народа в радостях и бедах. Это результат совместного переживания и осмысления побед и поражений, пройденного народом исторического пути на данной географической территории – его жизненном пространстве. Общность пережитого передается из поколения в поколение, образуя историческую социальную память народа, его традицию – устную, письменную, житейскую. Под последней имеются в виду обычаи, обряды, ритуалы и т.д., но также уклады жизни и "жизненные образцы".
Государства и церкви передают историческую память народа через школы, богослужения, культурные учреждения (например, музеи, памятники) посредством всех носителей информации, чтобы новые поколения путем эмоционального вчувствования и переосмысления пережитого народом смогли приобщиться к судьбе родины. Здесь патриотические чувства и мысли необходимо приобретают ретроспективный характер, и если патриотическое воспитание получает одностороннюю историческую направленность, то в процессе социализации может появиться желание дистанцироваться от отечества, воспринимаемого как царство мертвых, господствующих над живыми***. Вот почему главная задача патриотического воспитания в историческом аспекте – не культ предков и фаталистически-покорное воспроизведение того, что они делали, а формирование у людей чувства ответственности за судьбы родной страны, за то, чтобы благородные начинания предков нашли продолжение и традиция не прерывалась.
Патриотизм зрелой личности обязательно включает в той или иной мере элементы традиционализма, так как первично патриотизм – это любовь к тому, что индивида породило и сформировало, а следовательно, существовало не только вне, но и до него. Здесь, как и во всем, важна мера: повторим, что в нормальном состоянии современного общества патриотизм индивида не должен делать его заложником рода или народа, а личность не должна быть жертвой государства, церкви и любой другой общности, в том числе исторической. Не менее важно проводить различие между творческим продолжением традиции, с одной стороны, и разрывом с традицией под видом обновления – с другой. Однако в модернистском разрыве с традицией как таковом еще нет ничего предосудительного: ведь и традиции бывают разные ("добрые" и "недобрые"), и результатом модернизации может стать основание новой традиции [5, с. 68-74]. Более того, существование нетрадиционно чувствующих, мыслящих и действующих личностей и групп необходимо для социокультурного воспроизводства общества – не только "современного", но и "традиционного".
Опасность для естественной патриотической сплоченности членов исторической общности исходит не от тех, кто стремится к решению общих жизненных проблем нетрадиционно, а со стороны носителей антитрадиционалистского сознания. Последние порывают с традицией не потому, что считают свое видение выхода из проблемной ситуации более правильным, а потому, что презирают саму сложившуюся традицию. В основе презрения к традиции лежит, как правило, ненависть к создавшей ее исторической общности людей, ресентимент по отношению к ее отдельным представителям или олицетворяющим ее группам. В отличие от модернизма, антитрадиционализм – негативная, девальвирующая, деструктивная и дезинтегративная установка. За ней стоит подспудное стремление выместить накопившиеся отрицательные эмоции по отношению к данной исторической общности в форме насмешки, надругательства, издевательства над традицией, желание сломать, ниспровергнуть, принизить ее достоинство. Примерами антитрадиционализма (конечно, только как преобладающей тенденции) в экономике, политике, социальной и культурной сферах могут служить радикализм, революционаризм, экстремизм; в гуманитарных науках – постмодернизм; в искусстве – такое направление как соц-арт [11].
Вопрос о том, является ли Россия конца ХХ в. обществом преимущественно "традиционным" или преимущественно "современным", имеет, на наш взгляд, не только теоретический – культурологический и социологический – смысл, но и (с 1991 г.) государственное и практическое значение. Опыт радикально-демократического реформирования России потерпел неудачу не в последнюю очередь потому, что огромная страна рассматривалась революционаристски настроенными реформаторами, во-первых, как единая историческая общность в духе идеологического конструкта "новая историческая общность людей – советский народ". Однако вскоре выяснилось, что из столиц бывших союзных республик, и даже из Москвы, Казани, Грозного, Якутска или Владивостока общность исторических судеб страны и населяющих ее народов видится по-разному. Во-вторых, "реформаторы" рассматривали Россию как единое целое, однородное в социокультурном отношении и по сути близкое к тому, что существует в Москве и Московской области. В действительности современная Россия – не единый организм, а гигантский конгломерат относительно независимых друг от друга (но в большинстве своем не от "центра") регионов, неоднородных в социокультурном отношении. Одни (такие, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, их области) более или менее соответствуют критериям современного индустриально развитого общества; другие (такие, как Центральная и Южная Россия, Уральский регион, некоторые районы Сибири) соответствуют критериям развивающегося общества; третьи (такие, как Крайний Север, регионы Сибири и Дальнего Востока, Северный Кавказ) – более или менее соответствуют критериям традиционного общества. Все три типа регионов имеют свои особенности социального времени и пространства, особые исторические темпы (ритмы и циклы) развития, особые природно-климатические условия и национально-культурные традиции. Казалось бы, давно известно: "что хорошо для Москвы, то плохо для провинции".
Не удивительно, что следствием унифицированного модернизаторского, а подчас антитрадиционалистского, подхода в регионах второго и третьего типа стало не создание "новых русских" форм жизни и жизненных образцов, которые бы соответствовали мировым тенденциям начала ХХI в., а разрушение традиционного уклада жизни – так называемый "бандитский" или "клептократический" капитализм [7, с. 144]. Под последним имеется в виду общественный строй, основанный на этосе уголовного мира и реальной власти его "авторитетов" – личной, экономической, политической, – власти, постепенно распространившейся на все сферы российского общества (в частности, на право и правоохранительные органы, систему образования, культуру)****. Он начал формироваться еще в годы горбачевской либералистской демократизации, открыто заявил о себе после "беловежского сговора", легализовался с помощью обманной приватизации и быстро охватил подавляющее большинство регионов.
Главная проблема, стоящая перед социологом, исследующим патриотический аспект "нового русского" капитализма, заключается, на наш взгляд, не столько в том, оценивать ли его как преимущественно "компрадорский" или как преимущественно "национальный", сколько в том, каковы его истоки и специфический этос. Что же касается его исследования с точки зрения социологии знания, причем в особом, патриотическом, аспекте, то главным предметом становятся те феномены сознания, в которых "новый русский" капитализм так или иначе связывается с исторической судьбой России.
За последние годы в обыденном и общественном сознании укоренилось множество иллюзий и мифов относительно недавнего прошлого, настоящего и будущего "нового русского" капитализма. Для социологии знания они представляют такой же интерес, как и социально-научные концепции, претендующие на объективную истинность. Одной из иллюзий является убеждение, что "новый русский" капитализм возник после приватизации или, по крайней мере, после 1991 г. Другая состоит в том, что тяготы переживаемого ныне периода – лишь "временные трудности", которые носят обратимый – закономерно цикличный – характер и вскоре будут преодолены*****. Третья иллюзия заключается в том, что в настоящее время стоит альтернатива: либо "новый русский" клептократический капитализм, либо возврат к коммунистическому режиму. Одни носители этой иллюзорной альтернативы считают антипатриотами и предателями родины тех, кто критикует наше "реально-социалистическое прошлое" со всеми его достижениями, другие обвиняют "коммунистов" в стремлении воскресить это прошлое, по сути своей антипатриотическом ("ибо не ведают, что творят"). При этом ни те, ни другие не допускают мысли, что в современной России нет ничего похожего на западное "гражданское общество" и "капиталистический строй" (в смысле капитализма, о котором писали К. Маркс и М. Вебер, и который существует ныне в индустриально развитых странах мира), а также того, что коммунистический режим практически воскресить невозможно, тем более в том виде, в каком он существовал в СССР. Для тех и для других "капитализм" и "коммунизм" (социализм) – абстрактные политико-идеологические символы, знаки принадлежности к одному из двух враждующих лагерей. Между тем, настало время взглянуть на них с философско-антропологической точки зрения, в свете которой непроходимая пропасть между ними исчезает, и высвечивается совершенно иная альтернатива [7, c. 143]. Наконец, четвертая иллюзия выражается в убеждении, что "новый русский" капитализм, хотя и имеет "бандитский" характер, в сущности, ничем не отличается от западного капитализма времен первоначального накопления. С этой иллюзией неразрывно связан миф о "новом русском гумусе". Подобно тому, как на Западе по прошествии определенного исторического времени зверски жестокое первоначальное накопление капитала вошло в цивилизованное русло и приняло форму "гражданского общества" с общечеловеческим лицом, так и нынешний "бандитский" капитализм в России за два-три поколения должен облагородиться: дети и внуки "новых русских", выучившись в престижных зарубежных университетах, вернутся в Россию с капиталами, вывезенными за границу их отцами и дедами (ибо куда же их вкладывать, если не в Россию?) и создадут цивилизованный рынок******. Этот псевдопатриотический миф эсхатологического звучания российская интеллигенция создала себе в утешение за то, что плодами ее "гласно-перестроечных" усилий воспользовались бывшие государственные и партийные бюрократы, работники торговли и региональные царьки, цеховики-теневики и уголовные авторитеты.
На наш взгляд, объективных оснований для исторического оптимизма*******, которым исполнен описанный нами социальный миф, в действительности нет. Учеба "новых русских детей" в элитарных российских и зарубежных школах – на что особенно напирают творцы-приверженцы этого мифа – отнюдь не гарантия смягчения нравов********, последующего мнимого осознания родовой вины и патриотического раскаяния. Наоборот, это залог прогрессирующего отчуждения от народа и судеб родной страны, более жесткого и циничного к ним отношения, предпосылка для ориентации преимущественно на индивидуалистические и космополитические ценности, в свете которых само понятие "родовой вины" – не более чем фикция. Те, кто находятся в плену описанного мифа, наивно полагают, будто плохие родители будущих хороших детей и внуков – всего лишь навоз, гумус истории. Объяснить такую аберрацию сознания, впрочем, довольно легко: типичный компенсаторный перенос с "больной головы на здоровую" [7, с. 146; 13, с. 117-119*********].
Патриотизм и государственная общность
И.А. Ильин называет государством "организованное общение людей, связанных между собой духовной солидарностью и признающих эту солидарность не только умом, но поддерживающих ее силою патриотической любви, жертвенной волей, достойными и мужественными поступками..." [14, с. 260]. "Первая и основная аксиома политики не постигнута большинством людей, – пишет И.А. Ильин. – Эта аксиома утверждает, что право и государство возникают из внутреннего, духовного мира человека, создаются именно для духа и ради духа и осуществляются через посредство правосознания" [14, с. 257-258]. Согласно его взглядам, "государство есть некая духовная община", а "политика есть солидарная деятельность ради единой и общей цели" [14, с. 262]. Сущность идеализма выражена в этой политическо-философской формуле с предельной ясностью: раз нечто, согласно разуму, должно быть таким, значит оно таково в действительности ("все разумное действительно")!
В таком идеально-типическом смысле, как у И.А. Ильина, государственная общность – главный приоритетный объект патриотических чувств, взглядов и деятельности входящих в эту общность членов и в то же время главный субъект воспитания любви к родине. Феноменологическая социология требует иного подхода к явлениям социальной действительности: государственную общность она рассматривает как результат взаимодействия реальных и идеальных факторов.

0 комментариев