Философские воззрения и положение философа в обществе. АРТУР ШОПЕНГАУЭР (1788-1860)
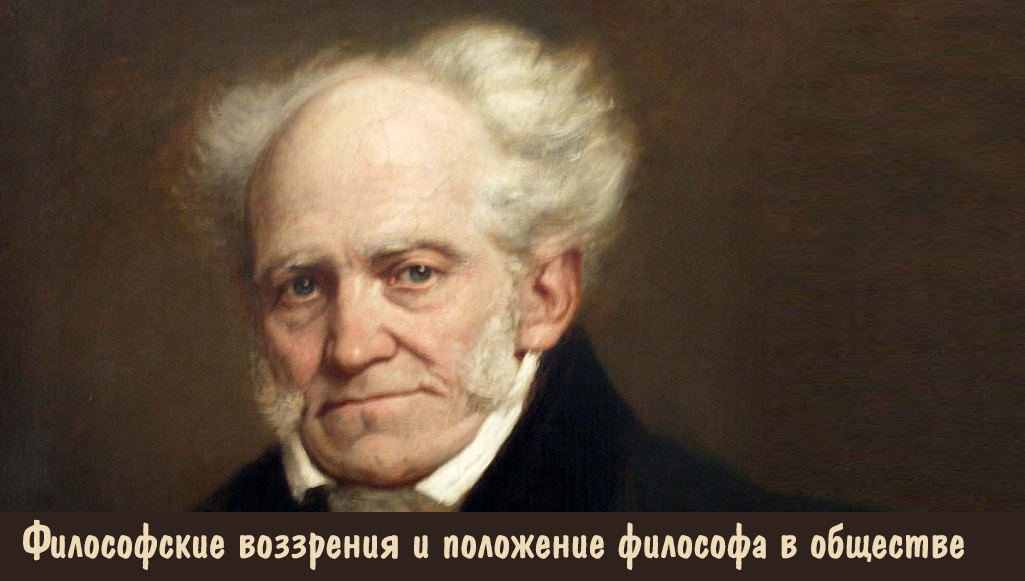
По моему мнению, философия всегда носит теоретический характер, так как, каким бы ни был непосредственный предмет ее исследования, ей свойственно только рассматривать и изучать, а не предписьгвать. Напротив, становиться практической, руководить деятельностью людей, преобразовывать их характер — это старые притязания, от которых философия теперь, достигнув более зрелых взглядов, должна была бы наконец отказаться. Ибо здесь, где речь идет о том, обладает ли или не обладает существование ценностью, о спасении или проклятии, решают не мертвые понятия, а глубочайшая сущность самого человека, демон, который ведет его за собой и который не выбрал его, а которого он сам выбрал, как говорит Платон, — его умопостигаемый характер, как говорит Кант. Добродетели не учат так же, как не учат гениальности. Для добродетели понятие столь же бесплодно, как для искусства, и может служить лишь орудием. Поэтому так же нелепо было бы ожидать, что наши моральные системы и этики создадут добродетельных, благородных и святых людей, как полагать, что наши эстетики пробудят к жизни поэтов, скульпторов и музыкантов. Философия может только одно: дать толкование и объяснение существующему и довести сущность мира, которая in concreto, т. е. как чувство, понятна каждому, до отчетливого, абстрактного познания разума, но уж это во всех возможных отношениях и со всех точек зрения. <...>
В нашей философии мы стремимся только к тому, чтобы истолковать и объяснить человеческую деятельность, различные, даже противоположные, максимы, чьим живым выражением она служит, по их внутреннему существу и содержанию в связи с нашими предыдущими соображениями и так же, как мы раньше стремились истолковать другие явления мира, привести их глубочайшую внутреннюю сущность к отчетливому, абстрактному познанию. При этом наша философия будет держаться той же имманентности, что и во всем предыдущем изложении: она не станет, вопреки великому учению Канта, пользоваться формами явления, чьим общим выражением служит закон основания, как шестом, чтобы, отталкиваясь от него, перепрыгнуть через само явление, которое только и придает им смысл, и опуститься в безграничной области пустых функций. Напротив, этот действительный познаваемый мир, в котором мы существуем и который существует в нас, остается как материалом, так и границей нашего рассмотрения: он, этот мир, столь богатый содержанием, что исчерпать его не могло бы самое глубокое исследование, на какое способен человеческий-дух. <...>
Каждый, кто считает, что сущность мира можно познать исторически, как бы тонко он ни маскировал свое намерение, также далек от философского познания мира, как небо от земли; между тем это происходит всегда, как только в воззрение на сущность мира в себе допускается какое-нибудь становление (Werden), или ставшее (Gevordensein), или становление становлением (Werdenwerden), где какое-либо «раньше» или «позже» получает хотя бы малейшее значение и, следовательно, явно или скрыто совершаются поиски и обнаруживаются начальный и конечный пункты мира, а вместе с тем и путь между ними, причем философствующий индивид познает даже свое собственное место на этом пути. Такое историческое философствование создает большей частью космогонию, допускающую множество вариантов, или систему эманации, учение об отпадении или, наконец, придя в отчаяние от бесплодных попыток на этих путях, вынуждено направиться по последнему пути и строить противоположное учение о непрерывном становлении (Werden), произрастании, возникновении, появлении на свет из мрака, из темного основания, безосновности и тому подобном вздоре; легче всего отделаться от этого замечанием, что до настоящего мгновения прошла уже вечность, т. е. бесконечное время, и поэтому все то, что могло и должно было произойти, уже произошло. Ибо вся эта историческая философия, сколько бы важности она на себя ни напускала, принимает время, словно Канта никогда не было, за определение вещи в себе и поэтому останавливается на том, что Кант называет явлением в отличие от вещи в себе, что Платон называл становящимся, никогда не сущим, в противоположность сущему, никогда не становящемуся, и, наконец, что индусы называют покрывалом Майи: это и есть познание, подчиненное закону основания, с помощью которого никогда нельзя прийти к внутренней сущности вещей, а приходится лишь до бесконечности следовать за явлениями, двигаться без конца и цели, подобно белке в колесе, пока наконец утомление не заставит остановиться на любой точке, вверху или внизу, почтения к которой стараются потом добиться и от других. Подлинно философское воззрение на мир — то, которое учит нас познавать его внутреннюю сущность и таким образом выводит за пределы явления, спрашивает не «откуда», «куда» и «почему», а везде и повсюду только «что» мира, т. е. оно рассматривает вещи не в каком-либо отношении, не как становящиеся и преходящие, короче говоря, не по одному из четырех видов закона основания, а наоборот, имеет своим предметом именно то, что остается по устранении всего, подчиненного данному закону способа рассмотрения, то, что проявляется во всех этих отношениях, но само им не подчинено, — всегда равную себе сущность мира, его идеи. Из такого познания исходит как искусство, так и философия, а также, как мы увидим в этой книге, и та душевная настроенность, которая только и ведет к истинной святости и освобождению от мира. <...>
...заниматься делом надо ради него самого, в противном случае оно не удастся, так как повсюду умысел представляет собой опасность для мысли. Поэтому, как о том свидетельствует история литературы, все достойное требовало много времени, чтобы получить признание, особенно если оно было поучительного, а не занимательного характера; а тем временем блистало ложное. Ибо соединить подлинное дело с видимостью дела трудно, если не невозможно. В том и состоит проклятие мира нужды и потребностей, что все должно служить и подчиняться им; поэтому он и не создан так, чтобы в нем могло беспрепятственно процветать и довлеть себе какое-нибудь благородное и возвышенное устремление, такое, как стремление к свету и истине. Более того, если иной раз такое стремление сумеет утвердиться и таким образом будет введено понятие о нем, им тотчас овладеют материальные интересы, личные цели, чтобы превратить его в свое орудие, или в свою маску. Поэтому после того, как Кант вернул философии признание общества, она вскоре стала орудием определенных целей, государственных — наверху, личных — внизу; впрочем, по правде говоря, не она, а ее двойник, которого принимают за нее. И это не должно нас удивлять, ибо трудно даже себе представить, насколько преобладают люди, которые по своей природе способны домогаться только материальных целей, а не каких бы то ни было иных, и не могут даже понять, что существуют и иные цели. Поэтому стремление только к истине слишком высоко и необычно, чтобы можно было ожидать, будто все, будто многие, даже лишь некоторые, искренне разделят его. Если же все-таки иногда заметны, как, например, теперь в Германии, явное оживление, всеобщая деятельность, письменные и устные выступления по вопросам философии, то можно со всей уверенностью предположить, что действительное primum mobile, скрытую пружину этого движения, несмотря на все торжественные мины и заверения, составляют лишь реальные, а не идеальные цели, что имеются в виду личные, служебные, церковные, государственные, короче говоря, материальные интересы и что, следовательно, лишь партийные цели приводят в столь сильное движение многочисленные перья мнимых мудрецов, что путеводной звездой этих буйных господ служат определенные намерения, а не понимание сути вопроса, а уж об истине они думают в последнюю очередь. Она не находит сторонников; она идет своим путем, минуя эту философскую сутолоку, так же спокойно и незаметно, как проходила его в зимнюю ночь самого мрачного, пребывавшего в путах закоснелой церковной веры века, когда она сообщалась как тайное учение лишь немногим адептам или даже доверялась одному пергаменту. Я бы прямо сказал, что самым неблагоприятным временем для философии является то, когда ею позорно злоупотребляют, с одной стороны, как орудием государственной власти, с другой — как средством наживы. Или, быть может, думают, что при таких устремлениях и в такой суете попутно будет найдена истина, о которой и не помышляли? Истина не продажная девка, вешающаяся на шею тем, кому она не нужна; она — неприступная красавица, в благосклонности которой не может быть уверен и тот, кто жертвует ей всем.
Если правительства превращают философию в средство для достижения государственных целей, то ученые, в свою очередь, видят в философской профессуре занятие, которое, как и всякое другое, дает средства к существованию; все они и стремятся к этому, заверяя в своей благонамеренности, т. е. в готовности служить названным целям. И они держат слово; не истина, не ясность, не Платон, не Аристотель, а цели, служить которым они признаны, — такова их путеводная звезда, и эти цели сразу же становятся для них критерием истинного, ценного, достойного и противоположного этому. Таким образом, то, что не соответствует этим целям, будь оно даже самым важным и выдающимся по их специальности либо осуждается, либо, если это кажется опасным, уничтожается общим игнорированием. Взгляните, с каким единодушным рвением, они выступают против пантеизма; неужели найдется глупец, который поверит, что они движимы убеждением? Да и как может философия, унижаемая до занятия ради хлеба насущного, не выродиться в софистику? Именно потому, что это неизбежно, утверждение «чей хлеб я ем, того и песенку пою» служит правилом испокон веку; древние считали, что зарабатывать философией деньги — признак софиста. К этому присоединяется и то, что, поскольку в этом мире надеяться можно только на посредственность, только ее можно требовать и иметь за деньги, то и здесь приходится довольствоваться ею. Вот мы и видим, как во всех немецких университетах посредственность трогательно прилагает все усилия, чтобы собственными средствами — причем по предписанным указаниям и для предписанной цели — создать еще вообще не существующую философию, — зрелище, насмехаться над которым почти жестоко.
В то время, когда философия уже давно принуждена была служить средством, с одной стороны, для государственных, с другой — для частных целей, я, не обращая на это внимания, свыше тридцати лет следовал ходу своих мыслей, просто потому, что я должен был так поступать и иначе не мог по какому-то инстинктивному влечению; опорой ему служила уверенность, что то истинное, которое человек мыслил, и скрытое, которое он озарил светом, будет когда-нибудь воспринято другим мыслящим духом, будет близко ему, будет радовать и утешать его, — к нему и обращена наша речь, также как подобные нам обращались к нам и стали нашим утешением в этой безрадостной жизни. Пока же надо заниматься своим делом ради него самого и для себя.
«О четверояком корне... Мир как воля и представление». Т. I. Критика кантовской философии. М., 1993. С. 376-379, 131-132.

0 комментариев