Ценность философии. РАССЕЛ БЕРТРАН (1872—1970)
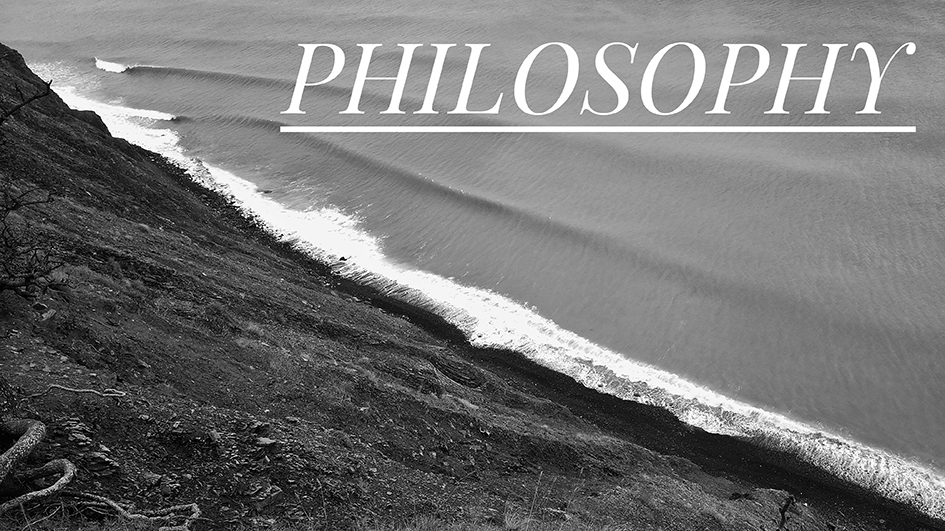
"Heart For You Only Original Mix (ru3"
Придя к концу нашего краткого и очень неполного обзора проблем философии, хорошо было бы в заключение выяснить, в чем ценность философии, и как она должна изучаться. Рассмотреть этот вопрос тем более необходимо, что многие под влиянием науки и практических дел склонны сомневаться, отличается ли чем-либо философия от невинной, но бесполезной забавы, увлечения тончайшими ненужными различениями и спорами по вопросам, относительно которых знание невозможно.
Этот взгляд на философию является результатом отчасти неправильного представления о назначении человека, а отчасти и неправильного представления о том, что философия пытается дать. Физика — благодаря ряду изобретений — полезна несчетному числу людей, совершенно не знающих ее; и поэтому изучение физики оправдывается не только тем, что она дает изучающему, но, главным образом, тем, что она дает человечеству в целом. Этого нельзя сказать про философию. Если изучение философа и имеет какое-нибудь значение для не изучающих ее, то лишь посредственное, через то влияние, которое она оказывает на жизнь посвятивших себя ей. И потому именно в этом влиянии мы должны прежде всего искать ценность философии.
Но, если мы не хотим, чтобы наша попытка определить ценность философии окончилась неудачей, мы должны прежде всего освободиться от предрассудков, которые неправильно называются предрассудками «практических» людей. «Практический» человек, в часто употребляемом смысле этого слова — это человек, признающий только материальные нужды, человек, знающий, что необходима пища для тела, но забывающий о духовной пищи. Если бы всем людям жилось хорошо, если бы бедность и болезни были низведены до возможно малых размеров, то все же оставалось бы еще многое, что нужно было бы сделать, чтобы создать ценное общество; но и при существующих условиях блага духа, по крайней мере, так же важны, как и блага тела. Только среди духовных благ можно найти ценность философии; и только тех, которые не безразличны к этим благам, можно убедить, что изучение философии — не простая потеря времени.
Философия, как и все другие дисциплины, стремится прежде всего к знанию. Знание, к которому она стремится, — это знание, которое дает единство и систему совокупности наук, знание, являющееся результатом критического рассмотрения наших убеждений, предрассудков и мнений. Но нельзя утверждать, что философия успешно справилась со своей задачей, дав определенные ответы на свои вопросы. Если вы спросите математика, минералога, историка или какого-нибудь иного ученого, совокупность каких определенных истин была установлена его наукой, то ответ будет длиться столько времени, сколько вы захотите его слушать. Но если вы поставите этот же вопрос философу, то он должен будет сознаться, если он искренен, что его наука не достигла таких определенных результатов, как другие отрасли знания.
Конечно, отчасти это объясняется тем обстоятельством, что лишь только становится возможным определенное знание, касающееся какого бы то ни было вопроса, то такое знание перестает называться философией и становится отдельной наукой. Изучение неба, составляющее теперь задачу астрономии, входило когда-то в философию; и великое произведение Ньютона носило название: «Математические принципы естественной философии». Равным образом изучение человеческой души, которое до самого последнего времени составляло часть философа, отделилось теперь от нее и сделалось предметом психологии. И, таким образом, в значительной своей части неопределенность философии более кажущаяся, чем действительная: ибо те вопросы, на которые мы можем дать определенные ответы, отнесены к отдельным наукам, и лишь те, на которые еще нельзя дать точного ответа, составляют тот комплекс, который называется философией.
Но это лишь отчасти объясняет неопределенность философии. Есть ряд вопросов, и среди них значительнейшие для нашей духовной жизни, — которые, поскольку мы можем установить, должны остаться неразрешимыми для человеческого, разума, если силы его не изменятся коренным образом. Есть ли во Вселенной единство и цель, или же это просто случайное нагромождение атомов? Является ли сознание необходимым элементом Вселенной, позволяющим надеяться на беспредельный рост мудрости, или же это просто преходящая случайность на крошечной планете, на которой в конце концов жизнь сделается невозможной? Имеет ли добро и зло какое-нибудь значение для мира, или только для человека? Такие вопросы возбуждаются философией, и на них различные философы дают различные ответы. Но, во всяком случае, можно ли дать на эти вопросы ответы, пользуясь другими методами или нет, ответы, даваемые философией, не являются доказательно истинными. И тем не менее, как ни мала надежда добиться ответов, дело философии продолжать рассмотрение этих вопросов, выяснять их важность, анализировать приближение к ним и поддерживать жизненность спекулятивного интереса ко Вселенной, — интереса, который может быть убит нашим ограничением себя определенно доказательным знанием.
Многие философы, конечно, считали, что философия может установить истинность известных ответов на эти фундаментальные вопросы. Они предполагали, что истинность основ религии может быть точно доказана. Чтобы оценить эти попытки, необходимо обозреть человеческое знание и составить мнение о его методах и границах. Но по этому вопросу было бы неразумно высказаться догматически; и если рассуждения предыдущих глав не сбили нас с пути, то мы принуждены отказаться от надежды найти философские доказательства религиозных убеждений. Мы не можем, следовательно, видеть ценность философии в каких бы то ни было определенных ответах на такие вопросы. Таким образом, лишний раз выясняется, что ценность философии не зависит от предполагаемой совокупности определенного доказательного знания, приобретаемого тем, кто ее изучает.
Ценность философии в действительности должна быть найдена именно в ее недостоверности. Человек, не обладающий вкусом к философии, проходит сквозь жизнь закабаленным повседневными предрассудками, обычными убеждениями своего века, своей среды и мнениями, выросшими в его сознании без участия или согласия судящего разума. Для такого человека мир ограничен, определенен, понятен; обычные предметы не возбуждают вопросов, а необычные возможности с пренебрежением отбрасываются. Но лишь только у нас появляется вкус к философии, мы сейчас же обнаруживаем ... что даже самые обычные вещи возбуждают вопросы, на которые можно дать очень неполные ответы. Философия, хотя она не может сказать определенно, в чем истинный ответ на возбужденные ею сомнения, способна открыть ряд возможных ответов, расширяющих нашу мысль и освобождающих ее от тирании обычая. И, таким образом, уменьшая нашу уверенность в действительной природе вещей, философия значительно увеличивает наши знания возможных природ; она устраняет слишком притязательный догматизм тех, которые никогда не странствовали в царстве освобождающего сомнения, и оживляет наше чувство чудесности, показывая обычные вещи в необычном свете.
Но кроме этого выявления новых возможностей — ценность философии, быть может, даже ее главная ценность — в величии тех предметов, которые она созерцает, и в освобождении от узких и личных стремлений, являющихся следствием такого созерцания. Жизнь малосознательно живущего человека включена в тесный круг его личных интересов: в этот круг могут входить его семья и друзья, но весь внешний мир входит лишь постольку, поскольку он помогает или препятствует тому, что входит в круг его инстинктивных желаний. В такой жизни есть нечто лихорадочное и ограниченное, и по сравнению с ней жизнь философии спокойна и свободна. Частный мир инстинктивных интересов узок и находится в середине великого и могучего мира, который рано или поздно должен разрушить наш частный мирок. И если мы не можем так увеличить размах наших интересов, чтобы включить в них весь внешний мир, то мы находимся в положении гарнизона осаждаемой крепости, зная, что враг не дает нам уйти и что сдача неминуема. В такой жизни нет мира, но постоянная борьба настойчивости желаний с беспомощностью воли. Тем или иным способом мы должны, если наша жизнь должна быть значительной и свободной, — вырваться из этого заключения и этой борьбы.
Один из путей освобождения — это философское созерцание. Философское созерцание в своих широких рамках не делит мира на два враждебных лагеря, на друзей и врагов, на помощников и неприятелей, — оно совершенно беспристрастно. Чистое философское созерцание не стремится доказать, что Вселенная по своей природе родственна человеку. Всякое приобретение знания — расширение нашего «я», но это расширение достигается лучше всего, когда оно непосредственно не ищется. Оно получается, когда действует лишь стремление к познанию, и когда изучение не хочет заранее предписывать своим предметам определенные свойства, но заставляет наше «я» приспособляться к тем свойствам, которые оно находит. И мы не достигнем этого расширения, если, взяв «я», какое оно есть, попытаемся показать, что мир так схож с этим «я», что его познание возможно без признания того, что кажется ему чуждым. Стремление к такому доказательству является формой самоутверждения, и, как всякое самоутверждение, он препятствует тому расширению «я», которого оно желает и на которое, как это знает «я», оно способно. Самоутверждение — в философской спекуляции, как и вообще — рассматривает мир, как способ достижения собственных целей; и таким образом, оно принижает мир перед «я», и «я» кладет пределы величию его благ. В созерцании, наоборот, мы исходим из «не — я», и через величие этого «не — я» расширяются границы «я»; благодаря бесконечности Вселенной, разум, созерцающий ее, становится участником бесконечности.
Поэтому, те философские системы, которые отождествляли Вселенную с человеком, не питали величия духа. Знание — форма союза «я» и «не — я», и, как всякий союз, он боится угрожающего ему подчинения одной части другой, — подчинения, насильно приравнивающего Вселенную тому, что мы находим в нас самих. Существует широко распространенное философское стремление признать человека мерой всех вещей, признать истину человеческим произведением, признать пространство, время и мир универсалий — свойствами разума, признать, что если что-либо и есть не созданное разумом, то это не познаваемо и не имеет для нас значения. Этот взгляд, если наши предыдущие рассуждения правильны, неверен; но кроме того, что он не истинен, он лишает философское созерцание всего того, что ценно в нем, так как он ограничивает созерцание лишь «я». То, что этот взгляд называет знанием, — это не союз с «не — я», но ряд предрассудков, обычаев и стремлений, составляющих непроходимую завесу между нами и миром вне нас. Человек, удовлетворяющийся такой теорией познания, напоминает человека, никогда не выходящего из своего семейного круга из боязни, что вне его его слово не будет законом.
Истинное философское созерцание — в противоположность этому — находит удовлетворение в каждом расширении «не — я», во всем, возвеличивающем созерцаемые предметы, а следовательно, и созерцающего субъекта. Все личное или частное в созерцании — все зависящее от привычки, эгоистического интереса или желания, обезображивает предмет созерцания и нарушает союз, которого ищет разум. Создавая стену между субъектом и объектом, такие личные и частные вещи создают для разума тюрьму.
Свободный интеллект стремится к Божественному созерцанию, вне «здесь» и «теперь», вне надежд и опасения, не препятствуемый обычными убеждениями и традиционными предрассудками, спокойно, бесстрастно, руководимый единым и исключительным стремлением к познанию, — к познанию безличному, чисто созерцательному, которое только возможно достичь человеку. И поэтому свободный интеллект больше ценит абстрактное и универсальное знание, в которое не входят случайные частности, чем знание, доставляемое чувствами, знаниеы, которое по необходимости зависит и от исключительной и личной точки зрения — и от нашего тела, органы чувств которого деформируют то, что дают нам.
Разум, свыкшийся со свободой и беспристрастием философского созерцания, сохранит кое- что от этой свободы и беспристрастия и в мире поступков и чувств. Он будет смотреть на свои цели и желания, как на части целого, без упрямства, так как он знает, что эти его цели и желания — бесконечно малые обрывки в мире, значительнейшая часть которого не затрагивается человеческими поступками. Беспристрастие, которое является в созерцании чистым стремлением к истине, — именно то душевное качество, которое в поступках носит название справедливости, а в мире чувств является общей любовью ко всему, а не только к тому, что признается полезным или удивительным. Таким образом, созерцание расширяет не только пределы нашей мысли, но также и пределы наших поступков и чувств: из граждан, окруженного узкими стенами города, воюющего со всеми другими, — оно обращает нас в граждан мира. В этом гражданстве Вселенной заключается истинная свобода человека и его освобождение от порабощения узкими надеждами и опасениями.
Подведем теперь итог всему тому, что мы сказали о ценности философии. Философию надо изучать не за определенность ответов, даваемых ею на ее вопросы, — ибо, как общее правило, ни об одном определенном ответе нельзя сказать, что он истинен, — но скорее за сами эти вопросы, ибо эти вопросы расширяют наше представление о том, что, возможно, обогащают наше интеллектуальное воображение и уменьшают догматическую уверенность, мешающую разуму заняться спекулятивным творчеством; но прежде всего философию надо изучать из-за величия созерцаемой ею Вселенной, из-за того, что она возвеличивает наш дух и делает его способным к тому союзу со Вселенной, который является высшим достоянием духа.

0 комментариев